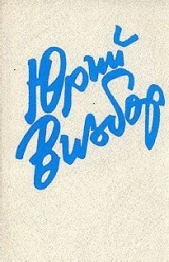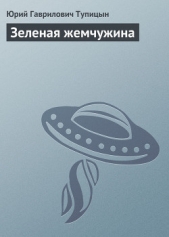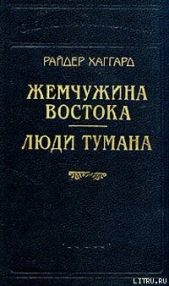Жемчужина в короне
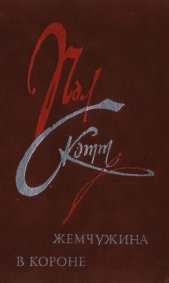
Жемчужина в короне читать книгу онлайн
Действие романа известного английского прозаика происходит в Индии в 40-е гг. XX в. Социально-политическая атмосфера тех лет раскрывается на примере судеб многих людей — индийцев и англичан. Идейный пафос произведения — бескомпромиссное осуждение британского колониального владычества, его пагубной роли в истории Индии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дом Макгрегора.Макгрегор-роуд,Майапур 1.Пятница, 17 июля 1942 г.Большое спасибо за письмо и за описание твоей жизни в Сринагаре. Я рада, что фотография поспела к твоему дню рожденья, а еще больше — что отрез на платье тебе понравился. Фотография вышла такая ужасная, что мне захотелось добавить к ней что-нибудь получше, а потом, когда я выбрала цвет, то испугалась, что еще больше напортила. Не очень-то я разбираюсь в туалетах, но тут мне подумалось, что этот цвет тебе пойдет. Ужасно рада, что ты тоже так думаешь. Надеюсь, старик Хуссейн не ударит в грязь лицом. Шьет-то он лучше, чем наш здешний портной. Мы с Лили в твою честь закатили пломбир и позвали на него несколько человек гостей, а потом была небольшая выпивка (думаю, ты бы это одобрила).
Тут сейчас льют дожди, но они в этом году запоздали, так что в Майапуре все уже начали запасать продукты на случай голода. «Все» — это те, у кого есть деньги. Джек Поулсон говорит, что это бич Индии — как богатые и полубогатые индийцы опустошают магазины, чуть только запахнет перебоями. Но это, надо понимать, ничто по сравнению с коррупцией, которая царит в высших сферах, там, где совершаются оптовые сделки.
Трава перед домом неправдоподобно зеленая. Обожаю здешние дожди. Но сырость проникает всюду. Бой каждый день чистит все мои туфли, чтобы не заплесневели, хотя они мне не так уж нужны, потому что в больницу и из больницы меня обычно доставляет в машине мистера Меррика его полицейский шофер (очень воинственно настроенный мусульманин. Он уверяет, что все индусы прячут дома оружие и готовятся рубить головы и англичанам, и мусульманам без разбора). Если день безбензинный (как мы все ноем в такие дни!), мистер Меррик посылает служебный грузовик, якобы на экстренное задание (например, переправить заключенных из тюрьмы в суд). Меня это немного смущает, я ему сколько раз говорила, что в любой день отлично могу поехать на велосипеде, а не то нанять тонгу, но он упрямится, говорит, что Конгресс не дремлет и опять усилились антианглийские настроения, а дом Макгрегора стоит на отшибе, в самом конце европейского города, так что он по долгу службы обязан следить, чтобы со мной ничего не случилось.
Он мне стал больше нравиться. Ничего не скажешь, он очень внимателен и заботлив. Если б только не его манера (за которой, несомненно, что-то кроется). Ну и то, что он начальник полиции, уже и само по себе отталкивает. Но теперь, когда я к нему привыкла — и перешагнула через что-то, о чем надо будет тебе рассказать, — я с удовольствием бываю с ним во всяких местах. Не люблю только, когда он переходит на официальный тон, как было на днях, когда он вздумал предостеречь меня по поводу моего (как он выразился) общения с мистером Кумаром, которое якобы вызывает пересуды не только среди англичан, но и среди индийцев. Я рассмеялась и ответила, не подумав: «Да не изображайте вы из себя полицейского!» И тут же спохватилась, что именно этого ему нельзя было говорить, потому что к своей работе он относится очень серьезно, и гордится, что дослужился до такой должности, и твердо намерен служить на совесть, а если это кому не нравится — ему плевать.
Чувствую, что надо тебе рассказать, но, пожалуйста, никому не говори, этого никто не знает, даже тетя Лили. С месяц назад он пригласил меня к себе домой на обед. И расстарался вовсю. Такого вкусного обеда в английском стиле я в Индии еще не ела (если не считать того раза, когда ты пригласила Суинсонов, а они заранее твердили, что ненавидят индийскую кухню). Еще одно очко в его пользу, на мой взгляд, то, что его слуга явно боготворит его и не пожалел трудов, чтобы приготовить своему сахибу обед при свечах, на двоих. А предлогом для обеда, если бы предлог понадобился, было его желание показать мне пластинки. Помнишь, я тебе рассказывала, что в конце апреля военные власти устроили здесь представление с оркестрами, парадом и прочим? И я еще там познакомилась с генералом Ридом, и он вспомнил, что встречался с нами в Пинди? И как я поехала туда с девочками из больницы, а оттуда мы с несколькими молодыми офицерами поехали в клуб? Позже в тот вечер в клуб заглянул Роналд Меррик (днем он был страшно занят, следил за порядком на улицах и т. п.). Мы все начали расхваливать музыку и выправку солдат — все и правда было очень эффектно, — и я, наверно, усердствовала больше всех. Во всяком случае, Роналд обратился ко мне и сказал: «Вы, значит, любите военные оркестры? Я тоже». Оказалось, что у него куча пластинок и что надо мне будет как-нибудь, их послушать.
Вот это и была зацепка. А я их не так уж и люблю, не настолько, чтобы слушать пластинки, так что, когда он потом снова об этом упоминал, я только отмахивалась. Я почти и забыла про эти пластинки, и вот тогда он пригласил меня на обед. Я почему-то сразу согласилась, а когда он сказал: «Вот и отлично, а потом послушаем те пластинки, что я обещал вам завести», я подумала: «О господи, ну и влипла!» Но боялась я зря (в смысле музыки). Мы к тому времени много где побывали вдвоем, и тем для разговора у нас хватало. Музыка была только частью очень приятного вечера. В его бунгало я бывала и раньше, но всегда с кем-нибудь, если он приглашал в воскресенье утром на кружку пива, а тут, когда я оказалась там одна, убедилась, до чего у него уютно и красиво. Он не курит, пьет очень мало, потому, очевидно, и денег у него больше, чем у других, кто получает примерно столько же. Дом со всей обстановкой ему, конечно, полагается по должности, но есть некоторые замечательные вещи и его собственные. Прежде всего — мировая радиола (на которой он ставил мне марши Сузы [11]). И очень хороший столовый сервиз, и изумительный персидский ковер, он сказал, что купил его на аукционе в Калькутте. Но особенно меня поразил его выбор картин. Держится он по-старомодному, я и на стенах у него ожидала увидеть какое-нибудь пошлое старье. В столовой действительно висели спортивные картинки — охота на кабана, поло, а в спальне — очередная стандартная красотка Дэвида Уайта (он показал мне все комнаты, но так деликатно, что и в спальне не возникло никакой неловкости, как могло бы быть с другим мужчиной), а вот в гостиной было всего две первоклассные репродукции с рисунков Генри Мура — люди, сгрудившиеся в метро во время бомбежки, смотреть на них тяжело, но как это сделано! Он трогательно обрадовался, когда я сказала: «О, Генри Мур? Удивительный вы все-таки человек!» И вот что еще меня поразило: в чуланчике (дверь прямо из холла, там гости моют руки) он велел бою приготовить душистое мыло («шипр-коти») и маленькое розовое ручное полотенце, явно не бывшее в употреблении. Должно быть, оно и куплено было специально для этого случая. (В его ванной при спальне мыло было «лайфбой», так что, пожалуйста, не торопись с выводами!)
И еще был сюрприз. После маршей Сузы он взял другую пластинку и сказал: «Это я тоже очень люблю». И что бы, ты думала, это оказалось? Clair de Lune [12] из сюиты Дебюсси в исполнении Вальтера Гизекинга. Это была одна из любимых вещей моего брата Дэвида. Чуть она зазвучала, я подумала, когда же это я говорила Роналду, что Дэвид это любил? Потом поняла — да никогда не говорила. Поразительное совпадение! Этот ужасный (хоть местами и увлекательный) Суза с его трубами, и следом — эта нежная лунная музыка, слушать ее было почти невыносимо и в то же время радостно, хотя в голове не укладывалось, что она может нравиться полицейскому.
Тут бой подал кофе — по-турецки. А к кофе ликеры (на выбор: кюрасо и crème de menthe, и то и другое так себе). Бутылки были неоткупоренные, прямо из магазина, специально для меня. Наверно, если я еще когда-нибудь буду у него обедать, в них окажется столько же, сколько мы оставили. За кофе он расспрашивал меня о моей семье, и как погиб Дэвид, и про папу, и про меня — как я смотрю на жизнь и вообще, и все так по-дружески, так участливо, что у меня язык развязался. (Наверно, он виртуоз по части допросов. Это я зря, извини. Но ты меня поймешь.) Потом он заговорил о себе, а я слушала и думала, симпатий ты не вызываешь, но, в сущности, ты добрый человек, поэтому мы с тобой сразу и спелись. Он рассказал, что происходит из «очень заурядной семьи» и, хотя отец его неплохо преуспел, сам он окончил только школу, а дед и бабка у него были «совсем уж невысокого полета». Работал он всегда очень много, и в индийской полиции дела у него пока идут хорошо, и службу эту он считает необходимой, хоть и не особенно привлекательной, но жалеет, что, поскольку он на такой работе, его не взяли в армию, а еще жалеет, что у него не было «настоящей молодости» и ему «не встретилась в жизни подходящая девушка». Ему часто бывает тоскливо. Он знает, что многого предложить не может. Понимает, что мы росли в разных кругах. Наша дружба очень много для него значит.
Тут он иссяк. Я не знала, что сказать, потому что не знала, правильно ли поняла, к чему он клонит. Мы глядели друг на друга и молчали. Наконец он выговорил: «Я прошу вас об одном. Не торопитесь, подумайте и решите, считаете ли вы возможным когда-нибудь стать моей женой».
Ты знаешь, тетя Этель, ведь это мне в первый раз в жизни сделали предложение. У тебя-то в моем возрасте, я не сомневаюсь, были десятки вздыхателей. Неужели все девушки в первый раз так волнуются? Наверно, это зависит от мужчины. Но если он ничего и человек порядочный, конечно же, это не может оставить равнодушной, как бы ни относиться к нему лично. Мне кажется, мое хорошее отношение к Роналду Меррику нельзя назвать иначе, чем весьма поверхностным. Он блондин, синеглазый, еще молодой и, право же, очень красивый, но мне все время кажется, что он чего-то недоговаривает — наверно, это связано с тем, что до конца искренним он не умеет быть. С ним я никогда не чувствую себя вполне естественно и не знаю, кто в этом повинен, он или я. Но когда он обратился ко мне с такой просьбой (согласись, что предложением руки и сердца это едва ли назовешь), мне очень жалко стало, что я не могу ответить «да», чтобы ублаготворить его. Интересно, знают ли мужчины, какой у них бывает жалкий вид, когда они сбросят эту свою жесткую кожу — мне, мол, все нипочем, — которую носят, когда в комнате больше двух человек? Куда более жалкий, чем у женщин, когда они разоткровенничаются.
Самое необыкновенное было то, что за весь вечер он даже руки моей не коснулся. В то время мне от этого еще страшней стало его обидеть. А потом мне от этого же стало еще яснее, каким холодом веяло от всей этой сцены. Мы сидели в разных углах дивана. Может, мне надо было надеть очки. Сейчас я даже не могу толком вспомнить, испытала ли я тогда потрясение. Казалось бы, я должна быть потрясена или по меньшей мере изумлена, но задним числом я поняла, что весь вечер был подготовкой к этому, так что теперь мне уже непонятно, чему тут было изумляться и как я вообще могла допустить такую мысль. В его словах и до этого было много намеков, и про себя я их отмечала. В какой-то момент я решила, что как мужчина он, несмотря на свою красоту, мне противен, но это, кажется, пришло позже, и ненадолго, когда я установила, что, хотя обидеть мне чего не хочется, я никогда не думала и никогда не буду думать о нем так, как ему, видимо, хотелось бы. Слабое чувство гадливости, вероятно, дало себя знать, когда я испытала облегчение, почувствовала, что выбралась из трудного положения и спряталась в себя, где уже больше ни для кого не осталось места. Меня теперь больше занимало, что произойдет после моего «отказа». Я и всего-то сказала: «Спасибо вам, Роналд, но…» Однако и этого было достаточно. Ты знаешь, как говорят про лицо, что оно «исказилось»? По-моему, вернее сказать — «погасло». Ведь исказилось — значит напряглось, изменилось, а на самом деле лицо нисколько не меняется, но в нем темнеют все окна, как в доме, откуда жильцы уехали. Теперь, сколько ни стучись в дверь, никто не отзовется.
Мы еще немножко послушали Сузу, а потом он отвез меня домой, и по дороге мы болтали о всяких пустяках. Когда мы подъехали к дому, я предложила ему зайти и выпить на прощанье. Зайти он отказался, но поднялся со мной на веранду. Прощаясь, немного задержал мою руку и сказал: «Есть вопросы, на которые сразу и не ответишь», из чего я заключила, что он еще надеется, но это был уже другой человек. Начальник полиции, тот Роналд Меррик, которого я не люблю. Тот, который позже, вот только на днях, так бестактно предостерег меня от «общения с мистером Кумаром».
Один из слуг ждал меня на веранде. Я поблагодарила Роналда за приятный вечер и пожелала им обоим спокойной ночи. Поднимаясь к себе, слышала, как отъехала машина и слуга стал запирать окна и двери. Я знала, что тетя Лили собиралась раз в жизни лечь пораньше, и не стала к ней заходить. В доме было очень тихо. Я впервые вспомнила, что в нем, говорят, водятся привидения. Ничего такого сверхъестественного я не ощутила. Просто большой пустой дом, какой-то печальный, и живут в нем не те, кому нужно. Что это я пытаюсь выразить? Не то, что мне стало страшно, а что вдруг потянуло к тебе.
Я тебе не говорила, но было время, мой второй месяц в Пинди в прошлом году, когда я удрала бы без оглядки, если б только кто-нибудь предложил мне оплатить дорогу. Видит бог, у тебя мне было хорошо. Но в том месяце, даже не весь месяц, а две или три недели, у меня непрерывно болело сердце, иначе не скажешь. Я все ненавидела, потому что всего боялась. Все было такое чужое. Я из дому и то силком себя выталкивала. Мне стали сниться ужасы — не про что-то, а просто лица. Они возникали неизвестно откуда, сначала лицо как лицо, а потом оно кривилось, разлеталось на куски и пропадало, а на его месте появлялось другое. И все лица были незнакомые. Я их сама выдумывала во всех пугающих подробностях, — пугающих, потому что так отчетливо вообразить лицо кажется невозможным. Наверно, у меня была навязчивая идея, что я окружена чужими, и она проникала даже в мои сны. Я тебе не говорила, но в тот день на веранде, когда приходил портной, ты, по-моему, догадалась, что со мной творится. Я помню, как ты на меня посмотрела, когда я не сдержалась и вырвала у него из рук блузку, которую он так старался скопировать. Ты знаешь, если б я жила у Суинсонов, этот эпизод, вероятно, переполнил бы чашу. Меня безвозвратно поглотил бы этот маленький замкнутый кружок — община культурных англичанок (впрочем, и англичан, но главным образом женщин) в заморской колонии.
Наверно, это надо считать в порядке вещей, что здесь, куда ни пойди, надо, чтобы рядом с тобой был кто-то известный, надежный, проверенный. А если не кто-то, так что-то. В Пинди в те недели я до нелепости привязалась к своим вещам, к своим платьям, как будто только им и могла довериться. Мне чудилось, что даже ты меня не спасешь. Тебе тут все и вся были знакомы, а мне нет, и, хоть ты всюду брала меня с собой, мне казалось, что я совсем одна. И здешнюю грязь, и нищету, и убожество ты словно не замечала, как будто ничего этого и нет, хотя я-то знала, что на самом деле ты так не считаешь. Но именно поэтому я вырвала у Хуссейна блузку. Видеть не могла, как он ее держит, разглядывает, трогает своими черными руками. Я себя за это ненавидела — и ничего не могла с собой поделать, потому и наорала на него. А у себя в комнате чуть не разревелась, и так мне было нужно в ту минуту, чтобы мне помогли, увезли домой, домой. В первый раз я так остро ощутила, что в Англии у меня родного дома больше нет, раз нет ни мамы, ни папы, ни Дэвида.
Примерно то же было со мной и здесь, когда я прожила в доме Макгрегора неделю и первое любопытство немного улеглось. Но в Майапуре «домом» стало уже твое бунгало в Пинди и ты сама. Надеюсь, что в моих письмах это не отразилось и ты не беспокоилась. Теперь это прошло. Мне здесь хорошо. Но одно время я ненавидела Майапур. Понять не могла, зачем заехала в это ужасное место. Даже подозревала тетю Лили, а вдруг она потому пригласила меня к себе жить, что я англичанка и, если белая женщина живет у тебя в доме, это вроде бы для тебя очень лестно и почетно. (Вот до каких гадостей додумалась!) Я даже вспоминала наше путешествие в поезде и уже не так строго судила тех отвратных англичанок. Думала, а откуда им было знать, что Лили не сделает ничего такого, что могло бы их возмутить? И в больнице я поняла, насколько легче разговаривать с англичанкой, даже если не соглашаешься ни с одним ее словом. Между людьми одной национальности разговор — это вроде стенографии, верно? Усилий затрачиваешь меньше, а сказать можно больше, и так привыкаешь к этой легкости, что от всего, что требует усилий, сразу устаешь, физически и умственно, и начинаешь злиться, и стараешься этого не показать, а оттого еще больше устаешь и злишься.
Этим, наверно, и объясняется, почему я не осталась при своем решении никогда не бывать в клубе. Сначала я приняла такое решение, потому что Лили Чаттерджи не могла бы пойти туда со мной. Клуб мне не нравится, но наблюдать там людей забавно — как все пекутся о своей исключительности и в то же время как вульгарно держатся. Кто-нибудь обязательно напьется пьян, разговоры — по большей части непечатные, злословие, а вместе с тем члены клуба каким-то непостижимым образом умудряются сохранять видимость высокой порядочности, точно существуют какие-то незыблемые правила и для безжалостных сплетен, и для безобразного поведения. До меня не сразу дошло, почему почти все женщины, которых я встречаю в клубе, меня сторонятся и многим мужчинам со мной явно неловко. Все это оттого, что я живу в доме Макгрегора. И то, что я этого сразу не поняла, показывает, каким облегчением для меня было оказаться среди себе подобных.
Помню, мама как-то сказала: «Ты, кажется, любишь всех на свете. Это неестественно. А кроме того, это тебе вредит. Ты столько времени потратишь зря, пока разберешься, с какими людьми стоит знакомиться». Раньше я понимала это «стоит» в смысле каких-то светских выгод. А теперь думаю, может, она имела в виду «стоит» в смысле моей внутренней жизни и душевного покоя и чувства безопасности. Но и так и этак она была не права, верно? Я убеждена, что стремиться к безопасности и душевному покою неправильно, что мы должны снова и снова набираться терпения и должны дерзать наперекор всякому, кто пробует стать нам поперек дороги, будь он белый или черный.
Но это нелегко, правда? Вот и в тот вечер, когда я вернулась от Роналда Меррика и поднималась к себе, мне чудилось, что на верху лестницы меня ждет что-то нехорошее, и хотелось повернуть обратно и бежать со всех ног… к нему! Я даже остановилась и поглядела вниз, в холл, а там стоял этот слуга, совсем мальчик, его зовут Раджу, и глядел на меня снизу. Боже ты мой, ведь он просто не хотел выключать свет, пока не убедится, что я дошла до верхней площадки, просто делал свое дело, но я успела подумать, ты-то чего не видал? Я была в своем длинном зеленом платье, том, которое тебе нравится, с голыми плечами. Я почувствовала… ну, ты понимаешь что. Какое у него выражение лица, я не видела, слишком было далеко. Просто коричневое пятно над белой рубашкой и штанами, а потом на месте его лица появилось выдуманное, из моих снов, лицо, которого я раньше никогда не видела. Я сказала: «Спокойной ночи, Раджу», услышала, как он ответил: «Спокойной ночи, мэм» (он христианин, с юга Индии, поэтому говорит «мэм»), и пошла дальше и, кажется, была готова к тому, что на верхней площадке увижу наше дежурное привидение, Дженет Макгрегор. Но там ничего не было. Я ее пока еще ни разу не видела. Я вздохнула с облегчением, но была немного разочарована.
Когда-нибудь я тебе расскажу про Гари Кумара. До сих пор я ведь только мельком упоминала его имя. И еще я тебе напишу про одну диковинную женщину, она зовется сестра Людмила, носит монашескую одежду и подбирает тела умерших. Хорошо бы ты была здесь, чтобы можно было поговорить в любое время. Вот и гонг к обеду. Дождь все льет, ящерицы на стене играют в прятки и попискивают, как они это умеют. Сегодня мы с Лили обедаем одни, а после обеда будем, наверно, играть в маджонг. Завтра надеюсь пойти с мистером Кумаром посмотреть здешний индуистский храм.