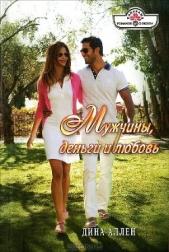Входите узкими вратами

Входите узкими вратами читать книгу онлайн
В книгу известного писателя военного поколения Григория Бакаланова вошли воспоминания о фронтовой юности, о первых послевоенных годах, о начале эпохи перестройки, о литературной жизни 60-80-х. Документально-художественная проза Бакланова это не только свидетельство очевидца, но и публицистически яркое осмысление пережитого, своего рода «предварительные итоги», которые будут интересны самому широкому кругу читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так это было или не так — дела не меняет, всего мы не узнаем никогда, но и того, что знаем, — довольно. Жертвы сами создавали и укрепляли машину, которая в дальнейшем перемалывала их. А он вот уцелел, седенький уже теперь старичок с подстриженными усами. Мы вырастали под его портретами. Сохранилась фотография четвертого нашего класса седьмой воронежской школы, случайно сохранилась, потому что и от Воронежа-то после войны почти ничего не осталось, ее пересняли и прислали мне в подарок. Стриженные, сидим мы в три яруса — на полу, на стульях, на сцене, — а передние прилегли, как разместил фотограф в стандартных позах, — и наши учителя на первом плане почетно среди нас. А над сценой — два больших портрета: Сталин и Ворошилов с кожаной портупеей косо через грудь. «Климу Ворошилову письмо я написал; товарищ Ворошилов, народный комиссар, товарищ Ворошилов, когда начнется бой, пошли моего брата в отряд передовой…» Как для нас все было несомненно! Так ли несомненно было и для наших учителей, теперь оставшихся уже только на фотографиях, но переживших многих своих учеников? Мне отчего-то на отдалении лет всегда жаль их, они ведь и другую жизнь знали, из нее вышли, другие понятия были им ведомы.
И опять же рассказывают, когда арестовывали Ковтюха, героя гражданской войны, с которого Серафимович писал своего железного Кожуха: когда пришли его арестовывать, он будто бы позвонил Ворошилову, с которым был на «ты»: «Я их тут держу под дулом пистолета. Положить их?» Но тот заверил своего боевого товарища: не сомневайся, мы разберемся. Как же его потом били на допросах, Ковтюха, как издевались над ним!.. Но и это, может быть, легенда: людям всегда хочется, чтобы трогательней выглядело, чем в жизни, легенды понятней, сами прилегают к сердцу.
Но факт, уж это-то факт: за всю войну, за все те страшных четыре года, мы потеряли высшего командного состава меньше, чем расстреляно было перед войной, а он-то, Ворошилов, и был в самые кровавые годы нашим народным комиссаром, своей рукой визировал расстрельные списки. И сколько же безымянно полегло солдат на полях войны, пока учились воевать наши командиры, вырастали в маршалов.
Но вот и сам не понимаю, как это получается, а когда его толкали, пробегая, молодые, полные сил, устремленные в карьерные выси, когда он, как обиженное дитя, беспомощно оглядывался, ища глазами недоеденный пирожок, честное слово, прямо-таки жаль его становилось. А ведь уже знал я, как Берии он боялся, готов был с ним на все, как плакал, когда причислили его к антипартийной группировке, но потом все же решили сохранить: не ради него, а чтобы народ не разуверился.
Он прожил с тех пор еще четыре года, столько же, сколько длилась вся Отечественная война. И как-то под праздник возился я на огороде, что-то сажал, и тут пришли сказать: Ворошилов умер, но чтобы людям праздника не портить, не омрачать печальными известиями, тело сохраняют пока что в холодильнике, а сам факт смерти держится в строжайшей тайне. Но минул праздник и выяснилось: жив.
Умер он поздней и похоронен был с почетом, и долго еще города и улицы назывались его именем.
НО ЖАЛЬ ТОГО ОГНЯ
Дважды меня исключали из партии. А вступал я в партию на Северо-Западном фронте в сорок втором году восемнадцати лет от роду, и было сказано по этому поводу: принимаем его прямо из пионеров. Через много лет после войны пошел анекдот: «Если убьют, прошу считать меня коммунистом, а нет — так нет…» Но в ту пору мы веровали, и не только по наущению комиссаров, которым был разверстан какой-то план, а от души нередко писали люди в окопе: «Прошу считать меня…» Так надевают перед боем чистую нательную рубашку, она уже останется на тебе, даже когда пройдут похоронные команды, снимая обмундирование с убитых, чтобы, отмытое от крови и подштопанное, оно вновь на ком-то пошло в бой. Потребность веры, радость самоотречения, готовность жертвовать собой — все это заложено в человеке, а немцы уже в ту пору стояли под Сталинградом, и коммунистов — это знал каждый — не брали в плен.
Везли нас из штаба на грузовике, мы тесно набились в кузов. Помню ветер встречный, машина скакала по выбоинам, за гулом мотора не слышен был полет снаряда, только вздымался разрыв то в поле, то впереди, а мы пели — орали, взбодренные близкой опасностью, причастившиеся.
Через три года полк наш возвращался из Австрии. Это был другой полк и другой фронт: Третий Украинский. Война кончилась, мы возвращались домой, в Россию.
Знали, дома голодно, и везли с собой что могли: была мука, сало, бочка вина, спирт в канистрах для горючего — имущество взвода. И вот на одной из остановок — а мы подолгу стояли то где-нибудь в поле, то на запасных путях, не на фронт идут эшелоны, с фронта, — подошел к нашей теплушке кто-то из офицеров:
— Слушай, у тебя, говорят, спирт есть?
— Есть.
— Бери, идем к нам.
Был я после болезни, врач полка определил воспаление легких. Определил правильно, а лечить все равно нечем. Правда, сестры, когда я выписывался из госпиталя в Днепропетровске, дали по дружбе мне в дорогу сульфидин, который в ту пору был на вес золота. Но в Венгрии поздней осенью сорок четвертого года, когда началось наше наступление и стояли мы с командиром второй батареи на наблюдательном пункте, смотрели, как после артподготовки пошли танки в атаку, пехота бежит за ними по грязи, по развороченному полю, спросил он меня, не отрывая бинокля от глаз: «Ребята говорят, ты сульфидин привез из госпиталя?» Мы ждали, не заговорят ли немецкие батареи, которые мы только что подавляли. «Привез» — «Дашь?» — «А что стряслось?» — «Да партизанка эта… югославская… Помнишь, в эшелон взяли?
Наградила меня…» И бинокля от глаз не отрывает.
Партизанку я запомнил, видел, как она картинно прощалась с матерью на перроне, потом впрыгнула к нам в эшелон. Были у нас на платформах пушки и тягачи, переделанные из американских легких танков, очень удобные на походе, крытые брезентом, а внутри — сиденья, как лавки широкие. Вот туда, под брезентовый кров, и взял ее комбат. Красивый был он парень, рослый, виски вьющиеся, кожа лица белая, нежная, раздражалась после бритья. Здесь же, на наблюдательном пункте, проще сказать — в окопе, который был нам обоим по грудь, отдал я ему сульфидин, но воспользоваться им не успел он: в тот же день убило его осколком снаряда.
И вот когда прихватило меня воспаление легких, вспомнил я тот сульфидин, не то чтоб пожалел, но вспомнил поневоле. А вымотало меня сильно, только что ветром не шатало. Но как отказаться, не пойти, если зовут? Дело мужское. В артиллерии не зря говорилось: артиллерист должен быть всегда чисто выбрит и слегка пьян.
Пошли. У них уже шумно. Двери теплушки откатили, солнце с поля светит яркое. А посреди вагона — стол красного дерева, ножки изогнутые, бронзовые лапы уперлись в пол дощатый, вагонный, дочерна истоптанный шипами лошадиных подков, сапогами, солдатскими ботинками. И такие все бравые сидят: гимнастерки, ордена, ремни. Мне, чтоб догонял, с ходу налили штрафную: толстого стекла граненый бокал грамм под триста. И опять нельзя себя уронить. Выпил, не дыша, запил водой. Если, не вдохнув, запить водою, спирт не обжигает, чуть только подсушит в горле. Не успел я еще заесть, колбасы сухой пожевать, идет, как на грех, дежурный по эшелону.
Остановился на насыпи снаружи, погоны майорские на его плечах чуть выше пола вагонного, он их недавно получил, никак не налюбуется:
— Празднуете?.. Хор-рошее дело…
Дежурил наш командир дивизиона, мы его не любили. Не умен был, но властен, как водится в таких случаях. И покрасоваться любил, сам роста малого, а выше всех себя нес.
— Выпиваете, значит… — И подержал, подержал всех под взглядом строгим, как под прицелом. — Кто мне догадается налить?
Налили. Чтоб не задерживался, компании не портил. А заодно и всем заново налили по кругу. У меня еще от первого бокала, как говорится, до бровей не дошло, а тут — второй следом. И больше я уже ничего не видел и не помнил.