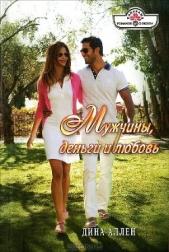Входите узкими вратами

Входите узкими вратами читать книгу онлайн
В книгу известного писателя военного поколения Григория Бакаланова вошли воспоминания о фронтовой юности, о первых послевоенных годах, о начале эпохи перестройки, о литературной жизни 60-80-х. Документально-художественная проза Бакланова это не только свидетельство очевидца, но и публицистически яркое осмысление пережитого, своего рода «предварительные итоги», которые будут интересны самому широкому кругу читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пока мы были молодыми и мыслями все еще там, на войне, словно она не кончилась (это не просто — вернуться в мирную жизнь, многим в ней места не нашлось), бывало, соберемся, выпьем, и если пойдут разговоры, так все больше смешное что-либо вспоминалось: то ли будоражить в себе не хотелось главное, а может, из простого чувства застенчивости. И дух вольности жил в нас, цену что ли начали себе сознавать? Вот это, как мы после убедились, более всего ненавистно оказалось «отцу родному», которого мы всенародно славили: рабами управлять легче.
Помню, стояли мы в Болгарии, поздняя осень сорок пятого года, красива Болгария осенью, персиковая, виноградная пора, а мы ждем — не дождемся, когда же, наконец, демобилизуют нас, домой отпустят, хотя у многих там — ни дома, ни крыши. Тем более — домой. И вот собралось дружное застолье, было это не в редкость, хорошо сидим, и тут кто-то скажи, что у одного нашего начальника, не буду имя его поминать, может, он теперь отошел уже в мир иной, будто бы у него целый прицеп набит награбленным барахлом. А давайте сожжем! В том ли было дело, что мы его не любили, или чувство справедливости взыграло в нас (когда человек выпьет, ему непременно справедливость подай), но сказано — сделано. У нас, у кого они были, даже фотоаппараты поотбирал у всех особый отдел и командование, мол — не дай бог! — пушки наши сфотографируем, тайну военную выдадим. Мало того, что отобрали, так еще как бы под подозрение попадал человек, может, успел уже, выдал, поди знай…
А тяжелая наша артиллерия едва ли не вся осталась в сорок первом году в руках у немцев: у границы, в многочисленных окружениях, какая уж тайна! И в каждом киновыпуске эффектно стреляли наши пушки, и во всех газетах были их фотографии, но тем не менее фотоаппараты отобрали у всех. А тут — прицеп барахла. Еще и застолье не кончилось, он уже пылал. Просто решалось тогда, в молодости.
Впрочем, доводилось мне слышать и героические рассказы. Но странная закономерность: как правило, это рассказывают те, кто был далеко от фронта, немца видел разве что в бинокль, а чаще всего — охраняемого, пленного. Окажешься в таком обществе и чувствуешь, что ты, вроде бы, и не воевал.
Конечно, в сорок первом году и фронт, и глубокие тылы нередко постигала общая участь, всех вместе, и тыловиков, и окопников, случалось, гнали по дорогам в общих сборных колоннах, немцы, сознавая себя победителями, даже и не очень-то их охраняли: тысячи, десятки тысяч, миллионы пленных, обреченных. Но под конец войны… Мне как-то довелось читать воспоминания комиссара, верней — замполита дивизии или бригады всего лишь. Был он в ту пору уже директором Свердловской киностудии, мы были знакомы, оказались одновременно в Доме кинематографистов в Болшеве, он попросил, я не смог отказать, читал. А он рассказывал спроста, как они жили на войне, на каких сервизах ели-пили как раз в ту пору, когда шли тяжелые бои за Вену, как им австрийки прислуживали. И все это как будто так и надо, хозяин жизни писал. Никогда уже больше он так не жил, как на войне. Да он ли один?
А вот в той же Вене. Бой в городе идет, заскочили мы в особняк, внизу, в холле (я и слова этого тогда еще не знал), — убитые лежат, и немцы, и наши. А по деревянной лестнице наверх — очередь пехотинцев. И все какие-то нетерпеливые, жаждущие. Там, наверху, — женщина, к ней и стоит по лестнице очередь.
Артиллерийские разведчики тут же начали оттеснять, отпихивать пехоту, не для чего-либо, а чтобы — самим впереди встать, уже за автоматы хватаются. Все же удалось отогнать и тех, и других. И видел я и всю жизнь это вижу, как она вышла.
Была это не австрийка — наша, угнанная в неволю: эшелонами гнали в Германию, в Австрию — восточных рабов. И вот со своими повстречалась. Она вышла на эту площадку лестничную наверху, юбка сзади тяжело отвисшая, мокрая, скользкая — этого я забыть не могу.
Те, кто был на войне, всего про войну не расскажут. И не надо. Я тоже немало из того, что видел и знаю, унесу с собой.
Но вот прошли годы, десятилетия, целая жизнь минула, и, глядя отсюда, хочу сказать: не судите этих людей по меркам мирного времени. Да, не все даже и война списывает, тогда и я готов был в эту очередь из автомата стрелять, а сейчас говорю: не судите. В том нечеловеческом деле, которое называют войной, даже нормальные люди звереют. И не всем, нет, не всем удается сохранить себя, остаться человеком. Хорошо, если хотя бы потом покаяние очищает душу. Но это — твою душу. А жертвы?
ВХОДИТЕ УЗКИМИ ВРАТАМИ
На третьем курсе студентом Литературного института послали меня в командировку в Чувашию, написать очерк. Я съездил, написал: дождливый день, поля, мокрые стога в тумане, как на краю света, простые подробности человеческой жизни, но мыслям в очерке не было тесно. Да этого газете и не требовалось, любая мысль в то время проходила сложный путь утверждений, согласований.
Очерк напечатали на первой полосе «Литературной газеты», я был приглашен к Симонову, главному редактору, меня ввели к нему в кабинет, я был поощрен и обласкан. И вновь командировка, на этот раз — в заволжские степи, и снова очерк на первой полосе. Мне было предложено, когда закончу институт, поехать собственным корреспондентом газеты на Куйбышевскую ГЭС, на «стройку коммунизма».
Не знал я, что коммунизм там строят заключенные, рабы. Наверное, таким и представлял себе коммунизм наш вождь и учитель и решил, после победы в войне, пришло время бросить валять дурака, пора называть вещи своими именами: «стройки коммунизма». Не резало же нам слух ежедневно повторяемое по радио и в газетах: «На горизонте уже видны сияющие вершины коммунизма!», хотя каждый школьник знал, что горизонт — это воображаемая линия, которая отдаляется по мере приближения.
Страну населяли не другие какие-то, ныне вымершие люди, а мы сами, мы воспринимали любое его слово как последнее откровение.
Помню, до войны в Воронеже большое умов смятение вызвали два свежих сталинских высказывания, напечатанные, кажется, в журнале «Большевик». Сталин сказал, что он любит почитать и в день прочитывает не менее пятисот страниц. Пятьсот страниц, мыслимое ли дело? Но объяснение нашлось: у Горького, мол, было так устроено зрение, что он взглядом охватывал сразу целую страницу. Раз Горький мог, Сталин тем более. А второе и мудрецов повергло в трепет: Сталин произнес тост за здоровье Ленина. За здоровье покойника… Подумать, что спьяну, грузинского вина перекушамши, на это самый смелый ум не решался.
Итак, предложено мне было поехать на стройку собственным корреспондентом «Литературной газеты». У меня в то время — ни семьи, ни жилья, я уж было размечтался, но тут произошло вот что: бывшего комсорга института Бушина я публично назвал фашистом.
Разразилось громкое партийное дело, меня исключили из партии, потом обошлось все строгим выговором, но ясно было, что теперь корреспондентом меня не пошлют.
«Литературная газета», весьма любимая интеллигенцией, была особая газета: ей и только ей высочайше позволялось являть умеренные признаки свободомыслия, нести легкий налет оппозиционности — для заграницы, разумеется. Мнение заграницы у нас всегда рабски почиталось, что не мешало вести борьбу с «низкопоклонством перед Западом». Учредив под строгим надзором единственную в стране, так сказать, оппозиционную газету, Сталин распорядился: дать ей хороший буфет. И буфет в «Литературной газете» был хорош. А главным редактором назначили Симонова: Сталин его любил.
Случалось, и сек, например, за повесть «Дым отечества», потом снова любил: у нас исстари за одного битого двух небитых дают. Да это ли битье по тем временам!
Вернейший бессменный помощник Сталина Поскребышев, рассказывают, на коленках елозил по ковру, молил властелина вернуть жену из лагерей, имел такую слабость, любил ее. «Иди. Жена тебя дома ждет». Дверь открыла незнакомая женщина: «Я — ваша жена». И с ней, сотрудницей органов, жизнь прожил, детей нажил. Так ли, нет, не поручусь, но это было широко известно. В сравнении с этим битье, выпавшее Симонову, — отеческая ласка.