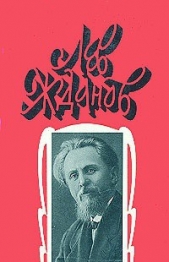Осажденная крепость
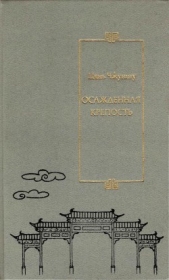
Осажденная крепость читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А, это ты, Су! Уже получила мое письмо?
— Получила. С чего ты взял, что я сержусь? Я же знаю, какой ты, в сущности, ребенок.
— Ты вольна быть снисходительной, но я не могу простить себе.
— Полно, стоит ли серьезно относиться к такой мелочи. Скажи лучше, тебе действительно понравилось то стихотворение?
Фан сделал все, чтобы в его голосе не прозвучала насмешка:
— Могу сказать одно: завидую таланту Ван Эркая!
— Тогда признаюсь тебе: эти стихи — не Ван Эркая.
— Чьи же?
— Это я сочинила забавы ради…
— Ты?! Проклятье на мою голову! — изобразил растерянность Фан, благо Су не могла видеть лукавого выражения его лица.
— И ты был прав, говоря, что это стихотворение не вполне оригинально. Мне показалась очень выразительной одна старинная французская песенка в собрании Тирсо, вот я и написала нечто подражательное. Если ты говоришь, что видел подобное же по-немецки, значит, мои стихи банальны.
— Но у тебя гораздо живее, чем по-немецки.
— Перестань льстить, я все равно не верю. Скажи лучше, ты придешь завтра?
Фан поспешил ответить утвердительно, но Су еще не вешала трубку. После паузы она сказала:
— Помнится, позавчера ты говорил о том, что у мужчин не принято дарить дамам свои произведения…
— Приходится дарить чужие, когда свои недостаточно хороши. Зовут же гостей в ресторан, если дома тесно или кухарка неумелая.
— Наверное, ты прав. Ну, до завтра!
Фан почувствовал, что у него потный лоб — то ли от быстрой ходьбы по улице, то ли от напряженного разговора.
В тот же вечер он послал Тан копию своего письма. При этом он пожалел, что худо пишет по-английски. Письмо на старокитайском получается напыщенным, на современном разговорном — слишком обыденным. Только на западных языках кажутся нормальными такое обращение, как «Дорогая мисс Тан!», или подпись: «Искренне ваш Фан Хунцзянь». Однако он сознавал, что его английская грамматика подчиняется законам и правилам не больше, чем ораторы в Гайд-парке или, скажем, американцы в период их борьбы за независимость. Иначе он прибег бы к помощи чужого языка — подобно политическому преступнику, укрывающемуся на территории иностранной концессии.
В течение последующего месяца он раз семь виделся с Тан, отправил ей десяток писем и получил в ответ пять или шесть. Первое полученное от девушки письмо он положил перед сном возле подушки. Ночью он дважды зажигал свет и перечитывал его. Постепенно эта переписка стала для него насущной потребностью. Стоило ему дома или на работе увидеть что-то любопытное или о чем-то подумать, как он тут же садился за очередное письмо. Когда писать было не о чем, послания его выглядели приблизительно так: «Сегодня все утро занимался деловой корреспонденцией, только сейчас разогнул спину. А-а-а-а! Слышите? Это я зеваю. Вот пришел половой из чайной, пора обедать. Продолжу после. Вы ведь тоже сейчас обедаете? «Если в полдень лишний кусок проглотить, можно до тысячи лет дожить…» Хотелось рассказать вам еще о многом, но видите — бумага кончается. Осталось место лишь для нескольких слов, что таятся в моей душе. Но у них, увы, еще нет решимости предстать перед вами…»
Письма, конечно, не могли заменить встреч. Первое время, предвкушая свидание, он несколько дней ходил в радужном настроении. Потом ему захотелось видеть Тан каждый день, каждый час. Но многого он не решался сказать вслух, и его снова тянуло к перу. Он боялся только, что его письмо, как сигнальная ракета, растратит в полете весь свой жар и до адресата дойдет лишь горсть золы.
Всеми правдами и неправдами Су вынуждала Фана часто бывать у нее, и все реже заставал он в ее доме Тан. Су ждала от него признания в любви по всем правилам и досадовала на его медлительность. Он же искал удобного случая сказать, что вовсе не любит ее, и ругал себя за недостаток решимости. Вскоре он уже признавался себе, что является, как говорят на Западе, воплощением «аморального малодушия», и опасался, как бы Тан не узнала об этой черте его характера.
Однажды в субботу, вернувшись после встречи с Тан, он увидел на столе приглашение на ужин, подписанное Чжао Синьмэем. «Уж не устраивает ли он помолвку с кем-нибудь?» Фан вздрогнул при мысли о том, что теперь Су удвоит свои старания. Действительно, Су вскоре позвонила, осведомилась, получил ли он приглашение, и попросила зайти к ней на следующее утро.
Не успел он войти, как Су принялась от имени Чжао уговаривать его прийти на ужин, сказав, что никакого особенного повода нет. Фан хотел было спросить — чего это ради Чжао, не выказывавший ему прежде дружелюбия, так вдруг переменился, но побоялся быть неправильно понятым и осведомился лишь, будут ли другие гости. Су ответила, что, насколько она знает, приглашены еще два приятеля Чжао.
— Не входит ли в их число толстячок Цао Юаньлан, великий поэт? У него физиономия похожа на пампушку — поглядишь и сыт.
— Нет, они не знакомы друг с другом. Я знаю, Чжао Синьмэй такой же невыдержанный, как ты, поэтому стараюсь, чтобы ни он, ни ты не встречались у меня с Цао, а то еще передеретесь. А ведь Цао очень интересный человек.
Фан готов был заявить, что все это его мало интересует, но нежный взор Су заставил его промолчать. К тому же его успокоило сообщение о том, что поэт тоже захаживает в этот дом.
И тут Су неожиданно спросила:
— Как тебе нравится Чжао Синьмэй?
— Во всяком случае, он способнее меня и вид у него представительнее. Наверное, далеко пойдет. По-моему, это идеальный… гм… человек.
Узнай Су, что господь бог стал славить дьявола, а социалист — мелкую буржуазию, она не была бы так поражена. Она ожидала, что Фан будет высмеивать Чжао, и ей придется во имя справедливости встать на его защиту, вызывая тем самым ревность Фана.
— Еще за ужин не сел, а уже расхваливаешь хозяина, — съязвила она. — Он мне через два дня на третий письма пишет, о чем — говорить не буду. И каждый раз жалуется на бессонницу, надоело до смерти. Какое мне дело до его бессонницы? Я же не врач! — По лицу ее было видно, что она прекрасно знает, какое отношение имеет к ней бессонница Чжао.
— В первой песне «Шицзина» сказано: «Эта девушка хороша, скромна. Он грустил в ночи, он томился днем». Значит, его письма продолжают старейшую традицию китайской культуры.
Су вспыхнула:
— Человек достоин сочувствия, ему везет меньше, чем тебе. А ты не ценишь этого, знай себе потешаешься над другими. Хунцзянь, ты мне таким не нравишься! Впредь я буду стараться сделать тебя добрее к людям.
Напуганный такой перспективой, Фан прикусил язык. Распрощавшись с Су до вечера, он в плохом настроении вернулся к себе и решил, что больше тянуть с объяснением нельзя.
В ресторане Фан застал двух гостей, о которых говорила Су. Один был сутулый, лобастый, с большими глазами за золотым пенсне, в пиджаке со слишком длинными рукавами; на его бледном безусом лице не было ни морщинки, и его можно было принять за молоденькую женщину или за мальчика-переростка. У другого был открытый, вдохновенный взгляд, прямой нос, словно к лицу этого человека лестницу приставили. Вся его внешность, в том числе изящно повязанный галстук, вызвала у Фана немую зависть. Чжао Синьмэй радушно приветствовал Фана и сообщил ему, что сутулый — философ по имени Чу Шэньмин, а второй, Дун Сечуань, только что вернулся из Чехословакии, где служил военным атташе в китайской миссии. Он хорошо пишет стихи в старом стиле и вообще весьма талантлив.
Настоящее имя философа было Цзябао, что буквально означает «Домашнее сокровище». Обладатель этого имени счел его пошлым и, следуя примеру Спинозы, сменил его, стал звать себя Шэньмин, что значит «Пронзающий мысленным взором». В детстве будущего философа одни считали вундеркиндом, другие — душевнобольным. Он не закончил ни высшей, ни средней, ни даже начальной школы, ибо не находил учителей, достойных наставлять и экзаменовать его. Женщин он не выносил до такой степени, что, будучи сильно близоруким, долго не хотел надевать очки, чтобы не видеть женских лиц. Он любил говорить, что в людях заложено два начала — небесное и животное, но в нем самом только небесное.