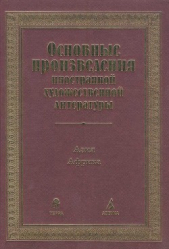Словенская новелла XX века в переводах Майи Рыжовой
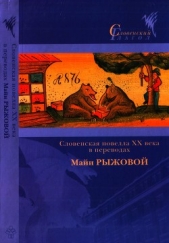
Словенская новелла XX века в переводах Майи Рыжовой читать книгу онлайн
Книгу составили лучшие переводы словенской «малой прозы» XX в., выполненные М. И. Рыжовой, — произведения выдающихся писателей Словении Ивана Цанкара, Прежихова Воранца, Мишко Кранеца, Франце Бевка и Юша Козака.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наци поднялся по лестнице. Ему показалось, что он уже не так пьян и может сам засыпать зерно.
Наверху Марича отставляла бадью.
— Марича, — сказал он, собираясь с мыслями. Она стояла рядом с ним и улыбалась.
— Не трогай меня, сам ведь знаешь, что пьян.
— Чего ты меня боишься?
— Пфф! Чего! Пойди проспись, чтоб завтра быть трезвым.
— Пойду. Ты права. Завтра встану трезвым, завтра для меня наступит новая жизнь. Тебе этого не понять. Но ничего… По правде сказать, Марича, ты красивая девушка, веселая, румяная, статная. А моя девушка маленькая и уж очень нежная. Скажи, ты многих любила?
— Не знаю, — засмеялась Марича.
Она не отстранилась, когда он взял ее за руку.
— Сегодня ты можешь меня любить. Этой ночью я еще свободен. — Он потянул ее за собой. — Завтра, конечно, ты должна обо всем забыть. Да ты так и сделаешь. Ты богата и найдешь себе богатого мужа. Может быть, он будет некрасивый, так что — лови момент! Одну ночь провести с мельником, — подумаешь, что тут такого!
Он наклонился и поцеловал ее. Марича не сопротивлялась. Он ощутил рядом ее тело, и его охватило дикое, безумное, незнакомое ранее чувство. Обычно, оставаясь наедине с женщиной, он вообще ни о чем не думал. Что-нибудь ей говорил, потом склонялся к ней и… Но в эту минуту было иначе. От прикосновения к ее телу он почувствовал вдруг какой-то ужас, может быть, потому, что его собственное пьяное тело плохо ему подчинялось, а ум оставался ясным и с удивительной зоркостью глядел на все откуда-то со стороны.
Марича прижалась к нему. Ее полные округлые руки обняли его. Она прислонилась к мешку спиной, притянула Наци к себе и впилась ему в губы…
Собрав все силы, он вскочил на ноги и, шатаясь, побрел по амбару. Он не знал, что с ним, и не размышлял об этом. С несвойственной ему поспешностью он спустился вниз по лестнице, словно хотел от чего-то убежать. Спотыкаясь, прошел по мельнице, распахнул двери и закачался на мостках, будто торопился выйти на воздух, вздохнуть полной грудью и хорошенько все обдумать.
На дворе была лунная ночь. Светлая, будто день. Только тени выделялись более четко. Воздух был свежим, как обычно в августовские ночи. Стук колес и шум воды врывались в тишину ночи и замирали где-то в лесу.
Наци тупо смотрел перед собой. Возле мельницы Ферко собрались люди. Они стояли, над чем-то склонившись. Наци не думал к ним подходить, но его невольно туда потянуло.
— Мертвая, — узнал он по голосу молодого мельника.
— Кто? — подскочил Наци.
— Катица, — сказал Драш равнодушно и буднично. Катица лежала на земле. Одежда прилипла к телу, волосы были спутаны, лицо бледное и неясное, остекленевшие глаза смотрели сквозь людей куда-то в лунную ночь.
— Я видел, — рассказывал мельник Драш, — как она прошла мимо колеса. Спокойно и беззаботно. На краю мостков остановилась. Мне показалось, что она тихонько плачет. Потом она перекрестилась. «Катица! — крикнул я. — Что ты там делаешь? Христос с тобой!» Но тут же раздался всплеск воды. Я вскочил в лодку. Поймал ее только у последней мельницы. Ночь, ничего не видно. Втащил я ее за волосы в лодку, а она уже мертвая.
Наци нагнулся над девушкой. Она лежала неподвижно, холодная, без всякой мысли на лице. Он протянул руку к ее губам. Потом провел пальцем от губ до глаз: лицо холодное, восковое, глаза тупые. Это было недетское лицо — умирая, дети не бывают такими серьезными. Но она была мертва, в самом деле мертва, и его охватил ужас.
— Скорее всего, это она во сне бродила, — объяснял Драш. — А я ее окликнул. Забыл, что лунатиков нельзя окликать.
Наци выпрямился, минуту смотрел на Драша, потом повернулся и пошел к своей мельнице.
Тело было усталым, мысли неповоротливы. Он растянулся на траве, положил руки под голову и стал смотреть в небо. Небо было ясным, без единого облачка, только месяц плыл в вышине. Все это он воспринимал с удивительной четкостью, словно прежде никогда не видел летних ночей.
И Ванек пел сейчас как-то выразительней. Он еще не улегся спать. Сидел и играл:
Песня мешалась со стуком колес, с шумом воды. Этой песне нельзя умолкнуть. Она должна звучать бесконечно, ведь она так монотонна и в ней есть какая-то тайна.
Вдруг Наци показалось, что он стоит посреди широкого поля. У поля нет ни конца, ни края. Где-то вдали оно сливается с небом. По дороге идет божья матерь с младенцем Иисусом на руках. Но, вглядевшись получше, он увидел, что это Катица. Она идет к нему на мельницу. В левой руке у нее ребенок, завернутый в большую рваную шаль, в правой — узелок с едой.
«Вот, погляди на нашего крикуна!» — говорит она с радостью и с чуть заметной улыбкой. Потом вдруг не стало ни Катицы, ни ребенка, на него смотрели только остекленевшие тупые глаза. Им нечего было сказать и не о чем спросить, и все-таки в них таилось так много недоговоренного.
— Как все это в самом деле просто и удивительно, — сказал сам себе Наци. — Мельницы, Мура, шум воды, широкое поле за лесом. Но удивительней всего человек. Случилось такое. Я согрешил и не хотел в этом сознаться. В этом все зло. Ребенок был мой. Это так просто, что дальше некуда. А я вздумал бежать от нее, вот и ушел. Она решила, что я ее бросил. Одной ей было бы с ребенком не прожить — она желала ему добра и боялась, что его судьба будет похожа на мою, поэтому ей оставалось только броситься в воду. Значит, моя подлость тут — во мне самом… Поэтому завтра для меня не наступит новая жизнь, все пойдет по-старому. Ничего не изменится. Только Катицы нет и ребенка… Осталось это холодное небо… стук колес… шум воды… песня Ванека… Все так понятно и так удивительно.
До него еще доносилась тихая песня слабоумного брата:
…И у этой песни нет конца…
Все подобно волнам — все течет и повторяется, все подобно шуму воды и стуку колес, только изредка звон колокольчика разорвет на миг это однообразие, и снова все идет своим чередом.
Как это в самом деле удивительно!
Лиза
Когда Лиза поступила на службу к трактирщику Лешнеку, она была еще совсем ребенком. У бедной сироты было только имя да маленькие, нежные руки, которые должны были управляться с самой тяжелой работой, если она вообще хотела жить и вдобавок купить себе к престольному празднику новое платье. Еще у нее было округлое, нежное личико с большими удивленными глазами и маленьким ртом, постоянно готовым к приветливой, милой улыбке, которую она радостно дарила кому угодно. Большие глаза непрестанно всему удивлялись: людям, животным, небу и земле, ветру и солнцу, — Лизе все хотелось обласкать взглядом. Она мечтала, как мечтают все бедные дети, и верила, что мечты очень, очень похожи на взаправдашнюю жизнь; нужно только помечтать, и потом все это в самом деле сбудется. Но если мечты не сбывались, глаза ее по-прежнему глядели на мир удивленно и недоумевающе, а маленький алый рот улыбался, словно она хотела сказать: я ведь знала, что так будет.
Трактир стоял у большой дороги, ведущей за реку и связывающей равнину с холмистым краем. Здесь останавливались люди с обоих берегов большой реки, они пили и плясали, когда Лешнек играл на гармонике, и Лиза должна была плясать с ними. Потом путники уходили, а Лиза провожала их своей приветливой улыбкой. Она одна справлялась со всей работой, Лешнек ничего не делал, сидел себе за столом с повешенной через плечо гармоникой и играл, если кто пожелает.
В боковой комнате лежала его больная жена, которую Лиза в солнечные дни должна была переносить в сад, а когда наступал вечер и одолевали комары, перетаскивать назад в комнату. Работы было более чем достаточно, но все-таки не столько, чтобы она не могла мечтать. Лиза собиралась посмотреть белый свет и верила, что ее мечты сбудутся. Но пока она весь день бегала и хлопотала по дому. К тому же гости то и дело отрывали ее от самой тяжелой и срочной работы, приглашая танцевать, а если она отговаривалась, Лешнек приказывал ей бросить работу и идти плясать с ними.