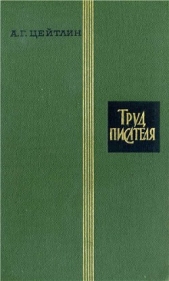Явление. И вот уже тень
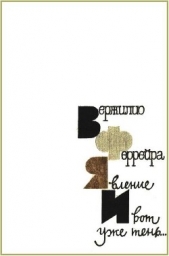
Явление. И вот уже тень читать книгу онлайн
Вержилио Феррейра — крупнейший романист современной Португалии. В предлагаемых романах автор продолжает давний разговор в литературе о смысле жизни, ставит вопрос в стойкости человека перед жизненными испытаниями и о его ответственности за сохранение гуманистических идеалов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Мондего!
Я дал ему имя, пес, не двигаясь, посмотрел на меня своим печальным, обиженно-старческим взглядом.
— Мондего! Ко мне!
Он не двигался. Но, как только мы пошли вперед, последовал за нами. У ворот он заколебался: как все псы, он хорошо знал, что существует частная собственность… Тогда я его подбодрил. Подбодрил его и Томас. Мондего, пытаясь понять наши мысли, долго смотрел на нас. Потом вошел. Я пошел за едой, — мне так хотелось, чтобы у меня была собака. Тетя Дулсе не одобрила мой поступок: согласно ее понятиям, собак имели простые люди — пастухи, арендаторы или всякие бродяги: гончары, лудильщики, цыгане, которые их привязывали к своим телегам. Мать приняла его, но разрешила держать только на улице — во дворе. И пес остался. Антонио вместе со мной смастерил ему конуру, положил внутрь солому, поставил плошку и, чтобы у пса была какая-то свобода, натянул от конуры до самого курятника проволоку, на которой закрепил его цепь. Но пес свободой не пользовался. Он лежал, словно поджидая смерть, у входа в конуру и оживал только в моем присутствии. Приходил я к нему часто. Приходил, разговаривал, а он смотрел на меня своими сочувствующими, все понимающими глазами. Так между нами установилось общение, как между личностями. Ведь раньше все живое, что я наблюдал, например, сверчки, медведки, богомолы, были движущимися объектами, или движущейся материей, как черви, лягушки, жабы, или уже жизнью, как птицы и быки, но общения с ними как с индивидуальностями, если среди них таковые вообще были, не получалось. Правда, жизнь во всех проявлениях всегда приводила меня в восторг. Но в прытких ящерицах, чьи оторванные хвосты неистово дергались, в подвижных ласках, в суетливых мышах, в птицах я разве что смутно чувствовал всеобщую форму жизни, всеобщую, поделенную между животными силу, обычный способ бытия, в котором начало и конец не предел, а звенья непрерывной цепи. А вот в Мондего я смог увидеть «личность», пусть не вполне определенную, но личность. Слыша мои шаги, пес шумно радовался, хрипло лаял. А когда я приближался, вставал на задние лапы, вилял хвостом, потом успокаивался, ложился, клал морду на вытянутые лапы, прикрывал глаза, явно чувствуя себя спокойно в моем молчаливом обществе. Я заставлял его вставать, выполнять приказы, он повиновался, правда без восторга. Но если он не мог проявить восторг, выполняя мои приказы, то беседовать, понимать меня мог прекрасно. Когда я с ним говорил, он широко раскрывал свои вдумчивые глаза. Это была личность с симпатиями и антипатиями, понимающая все, что происходит вокруг, и все, что окружающие намереваются предпринять в отношении него.
Однажды я застал отца и слугу, беседующими около пса и явно о нем. Мондего был болен: шерсть вылезала, он весь покрылся лишаями, глаза гноились, его то и дело рвало. Бедняге дали лекарство, но лучше ему не стало. Это было вечером, под рождество. Гора покрывалась снегом — была такой же, какой сейчас я вижу ее в окно. Когда я подошел к ним, отец и слуга замолчали. Но пес, хрипло лая в их сторону и горько, покорно глядя на меня, дал мне понять, о чем они говорили.
— Я вот говорю Антонио, что пес зимы не переживет, — сказал мне отец. — И чем скорее придет к нему смерть, тем лучше для него.
— Нет, он не умрет, — сказал я взволнованно.
Тут подошел Томас.
— На что ты, собственно, надеешься? Пес стар, он отжил свое и должен умереть.
Нет, тогда это не было приговором. Это было простой очевидностью. Но не для меня. Для меня очевидностью была только жизнь. Как мог пес умереть? Как могла умереть его «личность»?
Когда выпал обильный снег, Мондего мерз и не вылезал из конуры. Он только выглядывал оттуда, но еды больше не брал, и я тоже стал понимать, что пес умирает. Каждое утро я бежал во двор к конуре, как будто от этих моих обязательных визитов зависела его собачья жизнь.
— Умирает, но медленно, — как-то сказал Антонио.
В ночь перед рождеством мы всей семьей — дома остался только отец — отправились к праздничной мессе. Ночь была дивная, подобная сегодняшней, с чистой луной на чистом небе и живыми мигающими звездами. На горе искрился снег. Колокольный звон плыл над деревней. Чтобы мы не оступились в заполненные грязью ямы, которые при лунном свете не всегда видны, жена Антонио освещала нам дорогу фонарем. Такие же фонари мелькали и на горных дорогах в надежде сойтись всем вместе в церкви.
Вдруг, когда мы выходили из ворот, я почувствовал тревогу. Конура Мондего стояла в стороне, около навеса, где обычно привязывали быков. Я решил, что пес умер, и, бросив всех, пошел один в глубь двора. При лунном свете я осмотрел конуру со всех сторон, позвал Мондего. Пес не ответил. Я сунул руку внутрь — пусто. По глупости я решил, что он сорвался с цепи и лежит где-нибудь под навесом. Пошел туда, посмотрел там, сям… потом позвал: «Мондего!» Ни звука. И вот, возвращаясь к своим, я наконец его увидел, увидел на фоне лунного, звездного неба: он болтался на балке. Я сдержался, не закричал. Мать и братья уже было решили из-за меня вернуться. Пробормотав какие-то извинения, я пошел с ними. И вот, когда при свечах под гимны рождался Христос, Мондего покачивался на балке, и его многострадальное тело купалось в лунном свете.
На следующий день меня надумали обмануть — сказали, что нашли Мондего мертвым у конуры. Я никак не реагировал. Встал и пошел хоронить животное. Мне хотелось предать его земле с нежностью, чтобы последний голос был для него голосом друга.
Я уже не вижу луны, она очень высоко поднялась. Но белая, торжественная, обращенная ко мне часть горы теперь освещена целиком. И в недвижном безмолвии, в беспредельности застывшего времени смерть Мондего соединяется со смертью отца, исчезает, растворяется в безграничной умиротворенности. А налитый усталостью лунный взгляд стережет безмолвные кости, многозначительную тишину, которая меня затопляет.
Ставни так и остались открытыми, и очень рано солнце будит меня. Оно проникает сквозь стекла, растапливает нарисованные на них морозом узоры. Какое-то время я рассматриваю эти узоры. Они аккуратно нанесены, симметрично выгравированы. Бегущая по стеклу капля, как сломанная гравировальная доска, режет то один, то другой узор. Разбуженные солнцем вещи просыпаются, оживают, подобно живым существам. Стеклянный кувшин, стоящий в тазу посередине стола, поблескивает, радостно искрится. Полотенце, режущее своей белизной глаза, прикрывает его горло и свисает по обе стороны тугими от крахмала складками. На стуле висит моя одежда. В квадрате зеркала — холодный мир отражений. Я один и прекрасно себя чувствую. Снова закрываю глаза, весь во власти дремы, и вслушиваюсь в утренние шумы. Потом встаю. Тепло, совсем тепло. Я распахиваю окно, и солнце вторгается в мои владения. Снег стерилизовал жизнь: создал какой-то неестественный, не подверженный времени мир, мир пластмассы, эрзаца. А может, это сделало солнце? Потому что снег не мертв, он существует во времени: зарождается в затянутом тучами небе, падает на землю, исчезает с лица земли. В снежном воздухе дрожит брошенное кем-то слово, в прозрачное небо несется стук топора, а может, хлопающих дверей или едущих по мостовой телег? Деревня лежит в овраге, здесь гулок утренний воздух.
Вдруг двор наполняют резкие автомобильные гудки. Ухо мое ждет крика Жулии, несчастной толстухи Жулии, треска мотора маленькой машины Эваристо и, наконец, вопроса: «Монах? Где же монах?»
Но ничего этого не слышно. Мотор глохнет, и слуха моего достигает уже из коридора густой голос Томаса. Я не разбираю слов, но вскоре слышу, что он останавливается у моей двери:
— Можно?
Я открываю дверь, и мы заключаем друг друга в объятья. Я восторгаюсь его крестьянской силой, он журит мою тщедушность.
— Тебе не холодно? — спрашиваю я.
Он без пальто. На нем грубая рабочая одежда и подбитые гвоздями сапоги. Кожа рук заскорузла, обветрена холодами зимы. Синеватые глаза смеются.
— А Изаура, малыши? Сколько их теперь у тебя?