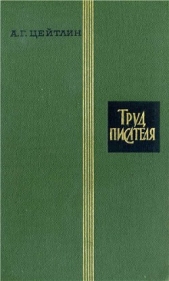Явление. И вот уже тень
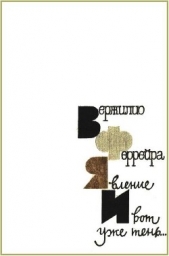
Явление. И вот уже тень читать книгу онлайн
Вержилио Феррейра — крупнейший романист современной Португалии. В предлагаемых романах автор продолжает давний разговор в литературе о смысле жизни, ставит вопрос в стойкости человека перед жизненными испытаниями и о его ответственности за сохранение гуманистических идеалов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однажды, неожиданно для меня, когда я вот так прогуливался, появился ректор. Хотя уж не так и неожиданно, потому что я увидел входящего во двор легавого пса, за которым тут же должен был последовать его хозяин. Как всегда, не уклоняясь от обычного маршрута, пес поднялся по ступеням и исчез в канцелярии. Он шел в кабинет ректора, в отведенный для него угол, где часами предавался меланхолии. Пес был грустным. Мы его ласкали, но он оставался к ласкам безразличен, всегда с опущенным хвостом и опущенной головой. Ректор подошел ко мне своей тяжелой походкой.
— Ну? Убиваем время? Так ведь?
— Да, сеньор ректор. День прекрасный.
— Хм… Тепло, хорошо.
Он остановился, принялся разминать сигарету, опустив глаза и выпятив нижнюю губу, словно выражал свое презрительно-снисходительное отношение к пороку.
— Тепло, хорошо. Хм… Так как идут дела?
У меня все шло как надо. Я был доволен учениками, экспериментами, которые проводил, к примеру сочинениями, сеньор ректор, внеклассным чтением, и городом, и погодой, и воспоминаниями, и тишиной, но, конечно, моя цель — Лиссабон (туда я надеялся через год перебраться), и, наконец, климатом (мне говорили, что он хороший, — я же из горной части Португалии, привык к холоду) и двором лицея (этим вечерним часом, монастырским уединением, годным для чего бы то ни было, даже для смерти), — это было именно так, я был доволен. Ректор прогуливался со мной взад и вперед по той части сада, где солнце расстелило свою светлую дорожку. Иногда поворачиваясь, мы сбивались с шага. Тогда он, стараясь, как солдат в строю, идти в ногу, смешно подпрыгивал. Наконец он сказал:
— Этот город… Здесь нужна осторожность, очень нужна осторожность. Ваши сочинения, конечно, очень любопытны. Но лучше давайте другие, лучше другие. Официант, портниха и прочие. Конечно, любопытные сочинения. Но лучше не надо, не надо. Ведь есть же другие темы. Я, конечно, никогда не преподавал португальский язык. Но есть же другие — «Весна», ну, и что-нибудь в этом роде… «Буря». Истории о детях, подающих милостыню бедным, и тому подобные. И тут все будут довольны, и богатые и бедные…
И он смеялся своим хрипловатым и добродушным смехом над несуразностями мира. Но тогда я его даже и не понял, потому что моя безмятежность разве что позволяла его слушать, не вникая в смысл произносимого… И тот солнечный зимний час, и тишина были чрезмерны для бесхитростной гармонии. Звонок возвестил о последних минутах урока, и очень скоро двор наполнился резкими ребячьими голосами.
Но если, добрый ректор, я не должен был привлекать внимание своих учеников к социальным проблемам мира, то поговорить с ними о непонятном чуде, именуемом жизнью, я запретным не считал. Да и, кроме того, то, что ты, как я теперь понимаю, запрещал мне, совсем не было стремлением дать ученикам себя почувствовать в шкуре носильщика или рабочего, а было желанием, чтобы каждый из них создал в своем воображении существо, стоящее вне законов людей и богов. То, что ты мне запрещал, было желанием создать детскими руками, руками смертных, новую личность — нового Адама, но не библейского! И тут было о чем побеседовать! Однажды мы прочли «Вавилон и Сион» Камоэнса [13]. В этих стихах говорилось о Вавилоне и небесном Иерусалиме. И Камоэнс, мой постоянный наставник с незапамятных времен, хотел сказать, что небесная родина — это идеал его грез, грез человека нищего, осужденного на муки. Но я знал, я, у которого нет всеоправдывающего и всеискупающего бога, я, который так давно сражаюсь за возвращение человеку всего, что еще сохранило на себе печать божественного, я, который хочу уместить все это в себе — недолговечном и хрупком сосуде из глины и воды, я, которого все волнует и тревожит, я, который материалист, но не тот, что все взвешивает гирями и отмеряет сантиметрами, я, который мечтает о полновластии человека на той земле, где он проклят и возвеличен, я, поборник всего таинственного и возвышенного, я знал, что память Камоэнса за пределами зримого и осязаемого была и моей врожденной, абсолютной памятью об истоках сущего. Но, стремясь преодолеть свое жизненное пространство, разорвать тучи, я ничего не находил, кроме пустого неба. Однако память оставалась моей, я это знал, знал и понимал, потому что все мое существо откликалось на какие-то неясные сигналы и смутную тревогу, которая охватывает меня, когда твоя музыка, Кристина, будит во мне эту память. Шопен. Ноктюрн № 20, Кристина… Я рассказал ученикам о Прусте, о времени, вновь обретенном в воспоминаниях, об ореоле, окружающем впечатления детства, о голубых барвинках Руссо [14], воскрешенных памятью о былом. Но моя память этим не ограничивалась. Она хранила не только конкретные факты, но и еще кое-что более значительное. Мелодия, которую слышишь впервые, луч солнца, который проникает сквозь оконное стекло, поток лунного света — все это может вызвать где-то там, в абсолютном измерении, эхо моей памяти, которая уходила за пределы жизни, резонировала в пустынных пространствах еще задолго до моего рождения и будет резонировать после того, как меня не станет. Видение чистой радости, спокойной полноты жизни, как и смутные ночные голоса и предчувствия, говорят о незапамятных временах. Непосредственная реальность исчезает, и в воздухе дрожит лишь паутина, сотканная из тумана и пустоты, песня без начала и конца, безымянная мелодия, прилетевшая неведомо откуда. Я убежден, знаю, что в свое время бог и явился результатом подобного устремления неизвестно куда, результатом поиска за пределами жизни. Но вот резонанс пустынных небес стал мощнее. С небесного свода, населенного ангелами, святыми, самим божеством, эхо неслось особенно зычное и раскатистое. Память вибрировала, как натянутая через всю вселенную струна, и человек стал воспринимать ее, как свою, рожденную его собственными вековыми мечтами, дремавшими до тех пор, пока саморазоблачение, самоуничижение или интерес к себе самому не заставили звучать эти мечты, тем самым подтвердив их бессмертие. Вот почему Камоэнс принадлежит нам, хотя Иерусалим — город мертвый. Голос поэта и голоса, вещавщие ему, мы теперь можем слышать в особые, исключительные часы откровения. Возможно, вечно живая мечта, которая всегда тревожила человека, была открытием, так им до сих пор и не осознанным. Открытием того, что услышанный человеком голос был его собственным и что вопрос, брошенный бесконечности, не несет иного ответа, кроме того, что в нем заложен, и что химеры и нимбы, ужас и сказочное могущество этого голоса — чудо, живущее в самом человеке, с ним рождающееся и с ним умирающее. Иерусалима нет на земле, он существует в беспокойном сознании людей, которые ищут ответа на свои вопросы, стремятся к полноте жизни, мечтая о ней среди голых камней и чертополоха. Иерусалим наш, мы возвели его в таких далях и таких глубинах нашего неуемного беспокойства, что только изредка, в час восхода и заката жизни, нас посещает его мираж.
Естественно, что меня поняли лишь немногие мои ученики, но их широко раскрытые от изумления глаза, их зачарованность сделанным мною сообщением были сигналом того, что что-то все-таки коснулось их сознания.
Как, например, Каролино, который сразу же после урока подошел ко мне. Когда он заговорил, я на него не смотрел. Но, подняв глаза, увидел, что лицо его, усыпанное красноватыми угрями, было белым как полотно.
— Сеньор доктор…
— Я слушаю тебя.
— Я не знаю, верно ли я понял…
— Ну, ну, я слушаю.
— Но, как я понял, я хочу сказать…
— Говори.
— Вот… но… это все так… Не знаю, как сказать: все это так сильно, так… Но я, я уже знаю, кто я есть, я уже себя знаю, я хочу сказать, я уже себя видел. И я хотел обо всем этом поговорить с сеньором доктором.
Когда вот так какой-нибудь ученик искал моего внимания, я, естественно, не пытался прийти с ним к взаимопониманию в плане очевидности, совпадения точек зрения, мыслей, дружбы двух мужчин, которые узнают друг друга и ищут себя в общении: я заботился лишь о том, как разъяснить, научить, информировать, не навязывая своей точки зрения, потому что такими понятиями, как очевидность и общность, я оперировал только тогда, когда говорил для всех, как будто только между преподавателем и каждым учеником, взятым отдельно и вместе с тем объединенным в коллектив, мог происходить обмен проверенными, четкими, ясными мыслями. Но у Рябенького не было мыслей, разве что была безумная тревога.