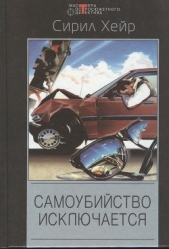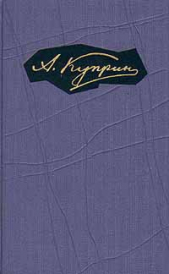Смерть автора

Смерть автора читать книгу онлайн
Комбинация «роман-шутка аспирантки филфака» + «стилизация под британскую беллетристику начала XX века» + «вампиры» не сулит ничего, кроме неизбежного похода к мусоропроводу, однако, по первой же странице «Смерти автора» становится ясно: перед нами исключение из правил!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я перевела дух; эту старомодную провокацию в духе агностиков прошлого столетия отразить было не столь трудно. Меня даже разочаровало, что Мирослав, с его умом, скатился до плоской демагогии.
— Ну, здесь вы подтасовываете, — благожелательно отозвалась я. — Всякому ведь ясно, что то, о чём вы говорите — не идеал христианства, а, напротив, его болезнь, извращение его социальных основ. Какое это отношение имеет к духу христианства? Где в Евангелии Христос предписывал жечь людей?
— А где в Евангелии Христос предписывал резать ирландцев? — неожиданно сказал Мирослав. — Так называемые оранжисты, [16] которые сейчас, пока мы тут с вами беседуем о нравственности, может быть, разбивают кирпичами головы вашим согражданам — ведь они уверены, что делают это во имя христианского идеала.
— При чём здесь оранжисты, — досадливо сказала я, не понимая, какова связь между беспорядками где-то в Ольстере и вопросом о христианской нравственности. — Никакой это не христианский идеал.
Мирослав посмотрел на меня спокойно, как ни в чём не бывало, и спросил:
— А каков, по-вашему, христианский идеал?
— Человеколюбие, естественно, — ответила я, изумившись такому вопросу. И увидела невыразимое презрение на лице Мирослава.
— Человеколюбие! Ваше англиканское человеколюбие предписывает умиляться босому мальчику в рваном тряпье и подавать ему грошик, а потом вздёргивать этого мальчика на виселицу за кражу репы. Не гуманнее было бы повесить его сразу, пока он не дошёл до кражи?
Мне стало невмочь от его цинизма и от невозмутимости, с которой он говорил подобные вещи, весьма поверхностно разбираясь в истории нашей страны и валя всё в одну кучу. Он сел на любимого конька иностранцев — попрекание чужой страны, и это надо было пресечь.
— Вы, Мирослав, городите чепуху, — с трудом сдерживаясь, сказала я. — Никто сейчас детей не вешает, тем более за кражу репы. Вы говорите так, как будто не существует никакого прогресса в сфере нравственных ценностей. Нужно быть слепым, чтобы не видеть, какой огромный шаг современный мир сделал в сторону защиты гуманности и прав личности.
— Да? Скажите это участникам англо-бурской войны. [17]
Мирослав хмыкнул; его вывернутая нижняя губа оттопырилась ещё больше, придав ему сходство с китайским драконом, которых рисуют на веерах.
— Я вижу прогресс только в укреплении приятности своего бытия. Вначале отсечение головы заменили на повешение — и тем продлили агонию осуждённых в десятки и сотни раз, при чём же тут гуманность? Может, лучше признаться, что боитесь крови? Недавно у вас казни из публичных сделали тайными — якобы ради соблюдения прав личности. Уверяю вас, что человеку, которому осталось жить пятнадцать минут, не до того, отнимут ли у него жизнь публично или тайно. Это волнует только тех, кому вид виселицы портит воскресную прогулку. Приятность не должна омрачаться — кредо вашего прогресса.
Как ни омерзительно это, но я чувствовала в его словах какую-то дикую правоту; в отчаянии уцепившись за последний аргумент, я сказала:
— Когда-нибудь смертную казнь вовсе отменят. Все цивилизованные народы к этому стремятся.
— Отменят, — подтвердил Мирослав. — А затем тех, кто ограбил вас или убил вашего брата, поместят в просторную светлую камеру с розовыми полотенцами и будут кормить диетическим обедом. И полотенца, и обед будут куплены на ваши деньги — ведь вы добродетельны и платите налоги. И вас никто не спросит, желаете ли вы содержать на свой счёт убийцу ваших родных и близких.
Он раскачивался на стуле с неприятным скрипом.
— Коне-ечно, — нараспев проговорил он, — отменят смертную казнь, не беспокойтесь. Лет через сто устранят нищету, накормят всех детей и построят для всех рабочих дома с садами. Арестантов в тюрьмах будут угощать мороженым. Борцы за права, лишившись других предметов, переключатся на борьбу против купальных костюмов — или что они там ещё способны выдумать. Но вот представьте себе: кому-нибудь прискучит стерильность этого мира, и он, вспомнив Джека Потрошителя, задушит первую встречную наивную барышню и изрежет её на куски… Что вы с ним тогда сделаете?
Его тёмные глаза упёрлись мне прямо в лицо.
— Посадите в камеру писать мемуары и есть мороженое?
Я снова промолчала. Мирослав порывисто встал со стула, захватив рукой длинную прядь своих волос и намотав на палец.
— Вы вот зовёте это гуманностью, а я зову это трусостью. Чего стоит ваша английская нравственность, прекрасно видно из «Джейн Эйр». Достойный человек благородного происхождения влюбляется без памяти в жеманную гусыню из дешёвого пансиона и хочет на ней жениться — она же вместо того, чтобы проявить хоть каплю благодарности, бросает его, обвинив его в том, что он хотел сделать её своей любовницей! И всё из-за того, что их брак не совсем безупречен с точки зрения канонического права, хотя разве он виноват в том, что его обманом женили на неизлечимо больной психопатке и развестись с ней нельзя? Нет, пепиньерка — откуда столько гонору? — принимает вид оскорблённой римлянки и бросает своего жениха фактически на верную смерть, ведь полоумная жена уже раз чуть не убила его, — а потом, когда психопатка погибла и преграда устранена, она с видом доброй самаритянки возвращается на пепелище нянчиться с избранником, потерявшим руку и глаз. Вот цена вашим английским добродетелям! Потому что вы бежите от вопросов, вместо того чтобы отвечать на них.
Он наклонился ко мне, дыша жарким запахом нагретой земли; шарф соскользнул с его шеи, и шрам был у меня перед самыми глазами.
— А если на ваших глазах мерзавец в зелёной повязке прирежет вашего соседа и изнасилует его дочь, с которой вы играли в детстве? И в руках у вас не окажется сабли или пистолета, как у мужчины, а только кол из садовой ограды?
Я содрогнулась.
— Хватит, — сказала я. — Начитались «Братьев Карамазовых»! Не выбивайте из меня те слова, которые хотите услышать; я не мальчик с нервической религиозностью. И мы не в Османской империи и даже не в крепостнической России, мы в Англии…
Он перебил меня:
— Ручаюсь, местонахождение в Англии не гарантирует вам ничего. Подобное может приключиться с кем угодно и где угодно. Итак, чего, на ваш взгляд, он заслуживает?
— А чего заслуживаете вы? — потеряв терпение, выпалила я. — Вы сторонник справедливости, вот и ответьте мне, чего, по вашей шкале, заслуживаете вы за всё то, что сделали.
Мирослав отступил назад и улыбнулся.
— Вы умная девушка. Я в вас не ошибся.
— Вы не ответили на мой вопрос.
— Ответить на него не составляет труда, — дружелюбно произнёс Мирослав. — Смерти.
Поражённая той бесхитростностью, с которой он дал мне ответ, я задохнулась, и по лицу моему потекли слёзы.
15 сентября 1913. Боже, как страшно всё перепуталось — во мне и вне меня! А ведь мы знакомы с ним чуть более двух недель; но за эти две недели мне пришлось узнать такое, что я не в силах ручаться, осталась ли я сама собой — Дороти Уэст. Казалось, англичанину такое знать нельзя, а узнав, остаётся только повеситься; но я живу. Живу и, что хуже, я принимаю Мирослава таким, как он есть. По меркам любой цивилизованной страны, он не заслуживает зваться человеком; сам факт его существования чудовищен и неправдоподобен, — ведь, что ни говори, а обезглавленному века назад полагается лежать в могиле, — и у Моппера были все основания изобразить его мерзким монстром. Но отчего же я чувствую к нему нечто иное и большее, чем ужас и гадливость? Не потому ли, что я видела то, чего нет в романе Моппера — ясные мудрые глаза Мирослава, его печальную и злую иронию, его неподдельную боль и тоску, его несгибаемую отчаянность и диковатую, но последовательную честность — человеческое, слишком человеческое лицо совершавшего бесчеловечные поступки. Да, это он — такой, какой он есть; ревнующий к своему литературному двойнику. Он хочет, чтобы любили его, настоящего Мирослава, а не героя Моппера. Вот что он так долго пытался до меня донести.