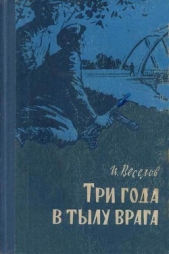Иной мир (Советские записки)

Иной мир (Советские записки) читать книгу онлайн
Автор описывает свое пребывание в лагерях ГУЛАГа, где он разделил судьбу десятков тысяч поляков, оказавшихся на территории Советского Союза в начале Второй мировой войны. Отличительная особенность "Записок" Г.Герлинга-Грудзинского заключается в том, что он не вынес чувства озлобленности против русского народа. Этот факт имеет важное значение для развития российско-польских отношений. Рассчитана на широкий круг читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Лечение заключенных в больнице в огромной степени сводилось к применению небольшой дозы отдыха и чрезвычайной дозы жаропонижающих. Лагерная аптечка снабжалась так убого, что сами зэки наизусть знали названия нескольких лекарств, применявшихся чаще всего, и просили их, не дожидаясь постановки диагноза. Однако при всем при этом было ясно видно, что, согласно секретным инструкциям лагерных властей (я узнал о них от одного из моих знакомых врачей), настоящая цель лечения состояла в том, чтобы как можно скорее поставить на ноги зэков, которые еще не до конца утратили трудоспособность. Для стариков, неизлечимо больных сердечников, для застарелых пеллагриков и туберкулезников больница становилась последней остановкой перед смертью или перед «мертвецкой». Долгом врачей было довести смертельно больных до такого состояния, чтобы после краткого отдыха они могли своими силами перебраться в находившуюся по соседству «мертвецкую» и помереть там, освободив больничную койку. Таким образом, только тот зэк, у которого организм еще был достаточно крепок, чтобы восстановить свои силы исключительно благодаря краткому отдыху, мог рассчитывать, что его пребывание в больнице станет чем-то большим, нежели простым побегом от каторжной действительности в мир сонных грез о прошлом.
Условия жизни в больнице, в сравнении с условиями жизни в лагере, входили в сферу невообразимой роскоши. Каждый больной вместе с направлением в больницу получал талончик в баню, на входе в палату сдавал свои лохмотья в обмен на чистое белье, ему указывали его койку, только что заправленную, рядом с которой стоял ночной столик; независимо от выполнения нормы до болезни, каждый зэк в больнице получал «третий котел», сырые овощи против авитаминоза и большую порцию белого хлеба, а пеллагрикам сверх того полагались два куска сахара и таких же размеров кусочек маргарина. Все это был так необычно, так неправдоподобно, что зэки, навещавшие в больнице своих друзей, прямо на пороге стаскивали шапки и не отваживались сделать ни шагу дальше, пока их не ободряло любезное приглашение медсестры.
Тот, кто пишет о советских лагерях, что бы он о них ни писал, не имеет права умолчать о поразительной доброте и сердечности медсестер. Может быть, потому, что хотя бы в течение дня они находились в несколько более человеческих условиях, а может, потому, что больница была в лагере единственным местом, где можно было прийти на помощь человеческому страданию, - лагерные медсестры относились к больным с такой заботой, вниманием и самоотверженностью, что мы их отчасти считали существами иного мира, которым разве что бестолковая выходка судьбы повелела жить и вместе с нами переносить все тяготы неволи. Эта атмосфера больницы оказывала влияние и на вольных. Начальник лагеря Самсонов во время инспекционных обходов всегда заговаривал с каждым больным, а вольный врач Егоров (о котором было известно, что он и сам бывший зэк) не мог удержать свой суровый голос от более теплых ноток, стоило ему остановиться возле больничной койки.
Мои больничные наблюдения из ерцевского лагеря, сопоставленные с рассказами и воспоминаниями других зэков, приводят к выводу, что в России царит нечто вроде «культа больницы». Даже в самых худших лагерях, даже в период разнузданного «произвола» и «первопроходческих» лагерных времен больницы были словно исключены из системы советского рабства и сохранили иной, более человеческий статус. Было что-то невероятное в том, что прямо за порогом, после выписки из больницы, зэк снова становился зэком, но, оставаясь лежать на больничной койке, он обладал всеми человеческими правами, за исключением свободы. Для человека, непривычного к контрастам советской жизни, больницы вырастали до масштаба храмов посреди безумств инквизиции - нарушение действующих в них законов выглядело почти осквернением святыни; быть может, в них не поклонялись человеку, но, во всяком случае, его уважали в тех пределах, которые позволяют в тюрьме отличать наказание от пытки.
Трудно удивляться, что зэки хватались за малейшую возможность получить направление в больницу. В «пионерский» период советских лагерей таким входным билетом становилось самоувечье на работе; я видел многих зэков с отрубленными пальцами на одной или обеих руках, а мой почтенный Димка в 1937 году заплатил за три месяца больницы в Няндоме протезом правой ноги, чему потом был обязан также сравнительно легкой работой дневального в бараке. Однако уже в 1940 году лагерные власти, ужаснувшись размаху самоувечий, догадались об их происхождении и с тех пор «несчастные случаи на производстве», не подтвержденные дотошным описанием происшествия, стали караться как «саботаж» дополнительным десятилетним сроком: «телесное самоповреждение» было подтянуто под ту статью советского кодекса, где идет речь о «вредительстве». Тем не менее, еще в декабре 1941 года я сам видел, как в зону с лесоповала привезли молодого зэка с отрубленной ступней; за два дня до этого, невзирая на протесты и мольбы, его выписали из больницы.
Зэки не сдавались. Нагноение довольно ничтожной ранки приводило к гнойному воспалению, которое иногда вызывало всего лишь небольшой жар, иногда же заставляло температуру подскакивать до требуемой границы. Среди урок было распространено впрыскивать растопленное мыло в мочепровод: вызывая гнойный выпот, - это создавало картину венерического заболевания и давало освобождение хотя бы на период наблюдения. Я сам, распарившись во время работы на базе, так что чувствовал прилипающую к спине рубаху, разделся до пояса на 35-градусном морозе и днем позже - дело было в феврале 1941 года - на две недели пошел в больницу.
В просторной больничной палате сестра указала мне место между немцем С. и русским киноактером Михаилом Степановичем В. Первые несколько дней мы пролежали рядом, не говоря ни слова. Больничный день тянулся медленно, а ночи - когда я уже утолил первую жажду сна - обладали чем-то от жизни вне законов времени. Так я лежал, уставившись в потолок или глядя на белые ото льда окна, за которыми простиралась непроницаемая тьма. Я старался не спать, чтобы хотя бы так продлить свое пребывание в больнице. Теперь я куда сильнее, с интенсивностью, которая граничила и с болью, и с радостью, чувствовал все свое унижение, всю нищету каторжной жизни. Но в то же время я воскрес в тишине и одиночестве и не раз, как о величайшем счастье, грезил о переводе в одиночную тюремную камеру. После полуночи палаты обходила медсестра Евгения Федоровна: не зажигая света, она прикладывала каждому холодную ладонь ко лбу; я притворялся спящим, чтобы избежать вопросов. Но один раз, помню, я молча схватил ее руку и прильнул к ней иссохшими от жара губами. Она глянула на меня с удивлением и инстинктивным испугом, но с тех пор всегда улыбалась мне, входя в нашу палату. Больница была единственным в лагере и тюрьме местом, где на ночь гасили свет. И именно там, в темноте, я впервые в жизни осознал, что только одиночество - то состояние в жизни человека, которое граничит с абсолютным внутренним покоем, с обретением личности. Только во всепоглощающей пустоте одиночества, в темноте, стирающей контуры внешнего мира, можно почувствовать, что ты есть ты, вплоть до пределов сомнения, которое внезапно порождается нашим ничтожеством перед страшно нарастающей безграничностью вселенной. Если в этом состоянии есть нечто от мистики, если оно толкает человека в объятия религии, значит, тогда я был религиозен, в душе кощунственно молясь: «Господи, дай мне одиночество, ибо я ненавижу людей». Потому что одновременно с этой эйфорией воскресения личности я чувствовал, что во мне погребено все, что связывает с другими людьми. Я не думал о лагере, не думал о тех, кто погибает за бортом спасательной шлюпки больницы, не думал о близких, о друзьях - ни о ком, кроме себя самого. Воскресая, я умирал. С накипавшей изо дня в день ненавистью я думал о том заключенном, который завтра придет занять мое место здесь. Горькое это торжество - отвалить надгробный камень над выжженной, бесплодной пустошью. Те мгновения, когда ночь касалась моих запекшихся губ росой темноты и я слышал в тишине биение своего сердца, подобное шагам, отмеряющим бесконечность, возвратили мне уверенность в собственном существовании, отнимая уважение к существованию других. Я был как слепой, который, прозрев, очутился в пустоте, наполненной зеркалами, отражающими лишь его собственное одиночество.