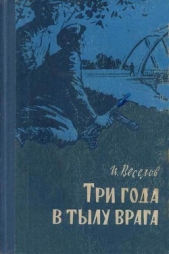Иной мир (Советские записки)

Иной мир (Советские записки) читать книгу онлайн
Автор описывает свое пребывание в лагерях ГУЛАГа, где он разделил судьбу десятков тысяч поляков, оказавшихся на территории Советского Союза в начале Второй мировой войны. Отличительная особенность "Записок" Г.Герлинга-Грудзинского заключается в том, что он не вынес чувства озлобленности против русского народа. Этот факт имеет важное значение для развития российско-польских отношений. Рассчитана на широкий круг читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Конечно, возникает вопрос: откуда родом эти чудовищные препятствия и затруднения, раз контингент принудительной рабочей силы уже доставлен в лагеря, а за поездку на свидание родные зэка платят из своего кармана? На это можно ответить лишь предположительно, и верно хотя бы одно из этих предположений, а то и все три. Во-первых, НКВД искренне верит в свою миссию службы политического здравоохранения граждан Советского Союза; во-вторых, оно старается отрезать людей на воле от знания условий жизни в лагерях принудительного труда и, по возможности, путем косвенного нажима склонить их к разрыву отношений с родными, находящимися в заключении; наконец, в-третьих, таким путем оно дает серьезный козырь лагерным властям, которые иногда по многу лет подряд выжимают из зэков остатки сил и здоровья, маня их надеждой на скорую встречу с семьей.
Когда родственник, прибывший на свидание с зэком, оказывается в помещении Третьего отдела, опекающего данный лагерь, он должен дать подписку, что, вернувшись на место жительства, ни единым словом не обмолвится о том, что хотя бы сквозь проволочное ограждение заметит по ту сторону воли; подобную подписку дает и зэк, вызванный на свидание, обязуясь - но тут уже под угрозой «высших мер наказания» (вплоть до смертной казни), - что не затронет в разговоре тем, связанных с условиями жизни в лагере. Можно себе представить, как мешает это распоряжение непосредственному, более глубокому контакту между людьми, которые нередко впервые после многих лет разлуки встречаются в таких непривычных обстоятельствах. Что же, в конце-то концов, остается от отношений между двумя людьми, если вычеркнуть из них обмен пережитым? Но вот зэку нельзя ни слова сказать, а его родным ни словом спросить о том, что происходило с ним с момента ареста. Если он изменился до неузнаваемости, если он исхудал, преждевременно поседел или выглядит как живой труп, он имеет право лишь общо и мимолетно заметить, что болел, мол, что-де климат этой части России ему не подходит. Задернув завесой молчания целый - и, кто знает, не самый ли важный - кусок его жизни, это распоряжение отбрасывает зэка в туманное прошлое, когда он чувствовал и мыслил не так, как сегодня, и ставит его в невыносимое положение слушателя - его-то, того, кто в первую очередь обязан говорить и прямо кричать. Не знаю, все ли заключенные держали слово, данное перед свиданием, хотя цена, которую пришлось бы заплатить за его нарушение, заставляет полагать, что, вероятно, держали. Близость родного человека, который приехал навестить тебя в лагерь, могла бы, правда, давать некоторые гарантии, но кто поручится, что в комнатушке, отведенной вам под жилье на время свидания, нет подслушивающих аппаратов или что к щели в тонкой переборке не приникло ухо сотрудника Третьего отдела? Всё, что я знаю, - что из Дома свиданий часто доносились отголоски плача, и у меня немало оснований полагать, что именно этот плач, эти беспомощные спазматические рыдания в минуту невыносимого напряжения извлекали из несчастных человеческих останков, принаряженных в чистую лагерную одежду, все то, чего не разрешалось выразить словом. Думаю, что даже это следует считать положительной стороной свиданий. Зэк никогда не осмелится заплакать в присутствии своих товарищей, а от частого плача сквозь сон в бараке я сам узнал, какое облегчение он приносит. Во всяком случае, в том безвоздушном пространстве, которое создавалось между двумя людьми в доме свиданий из-за печати на устах зэка, они передвигались наощупь, словно возлюбленные, которые за время долгой разлуки ослепли и боязливыми прикосновениями заверяют друг друга в своем ощутимом присутствии вплоть до того момента, когда, выучив наконец наизусть новый язык своих чувств, они вынуждены снова расстаться. Потому-то нередко, вернувшись из дома свиданий в зону, зэки были задумчивы, разочарованы и еще больше подавлены, чем перед свиданием.
Кравченко в книге «Я выбрал свободу» рассказывает, что одна его знакомая после долгих стараний (и взамен на обещание сотрудничать с органами) получила пропуск на свидание с мужем в уральском лагере. В комнатушку на вахте ввели старика в лохмотьях, в котором молодая женщина с трудом и не сразу узнала своего мужа. Верю, что он постарел и изменился, но не очень-то верится, что он был в лохмотьях. Конечно, я не могу категорически утверждать, какие отношения царили в этом лагере на Урале, и отвечаю только за то, что я сам видел, слышал и пережил у Белого моря, но мне кажется, что у всех трудовых лагерей в Советской России - хотя во многом они между собой различались - было одно общее и словно бы свыше предписанное свойство: они любой ценой стремились сохранить перед вольными видимость обычнейших хозяйственных предприятий, которые тем только и отличаются от секторов производственного плана, выполняемых на воле, что вместо обычных рабочих берут на работу зэков, оплачивая их и обращаясь с ними, ясное дело, несколько хуже, чем если бы они работали по своей воле, а не по принуждению. От родственников, приехавших на свидание, нельзя было скрыть физическое состояние заключенных, но можно было - хотя бы частично - скрыть то, как с ними обращались в лагере. Накануне свидания каждый заключенный был обязан пойти в баню и к парикмахеру, сдавал на склад старья свои лохмотья и на три дня получал чистую холщевую рубаху, чистые кальсоны, новый ватник и ватные штаны, невыношенную ушанку и валенки первого срока; от этой обязанности освобождались только те, кто ухитрился сохранить в каптерке на этот торжественный случай свою вольную одежду или обзавелся таковой - обычно нечестными способами - уже отсиживая срок. Как если бы всего этого счастья было недостаточно, ему выдавали хлебную пайку и талоны на баланду на три дня вперед; пайку он чаще всего сразу съедал целиком - чтобы хоть раз наесться досыта, - а талоны отдавал друзьям из зэков, рассчитывая на то, что родные привезут продуктов. После окончившегося свидания зэк сдавал на вахте для обыска все, что получил от родных, и прямиком шел на склад, где сбрасывал фальшивые перья и возвращался в свою прежнюю шкуру. Это предписание соблюдалось крайне строго, хотя и не было лишено некоторых вопиющих противоречий, которые одним ударом разрушали трудолюбиво предпринятый маскарад, инсценированный на потребу свободных граждан Советского Союза. В первое же утро по приезде на свидание родные могли, приоткрыв занавеску в доме свиданий, увидеть на вахте десятки бригад, отправляющихся на работу за зону, где грязные, покрытые гноем тени в изодранных лохмотьях, обвязанные веревками и судорожно сжимающие в руках пустые котелки, едва держались на ногах от холода, голода и истощения; только ненормальный мог бы допустить, что точно такая же судьба миновала аккуратного беднягу, которого вчера привели в дом свиданий в чистом белье и новой одежде. Этот отвратительный маскарад иногда был прямо комичен в своем трагизме и вызывал множество язвительных шуточек со стороны товарищей по бараку; мне довелось несколько раз видеть живые трупы, приодетые в приличные одежки, - им оставалось только сложить руки на груди и вставить в затверделые ладони иконку и огарок свечи, чтобы навеки опочить в дубовых гробах и в этой парадной одежде пуститься в свой последний путь. Излишне также добавлять, что зэки, вынужденно участвовавшие в этом спектакле, чувствовали себя в своем лжевоплощении довольно неловко, словно их наполняла стыдом и унижением сама мысль о том, что они служат ширмой, за которой лагерь пытается на три дня спрятать от вольных свое истинное лицо.
Если глядеть на дом свиданий с дороги, которая вела из вольного поселка к лагерю, он производил приятное впечатление. Он был выстроен из неошкуренных сосновых досок, щели между которыми были заткнуты паклей, покрыт хорошей жестью и, к счастью, не обмазан известкой. Побелка бараков была в лагере проклятьем: белые стены быстро пропитывались подтеками воды из сугробов и мочи, которую зэки отливали ночью под стеной барака, и покрывались желто-серыми пятнами, которые издалека выглядели стригущим лишаем на бледном, бескровном лице. Во время летней оттепели тонкий слой штукатурки начинал отваливаться, и тогда надо было снова проходить по зоне, не оглядываясь по сторонам: дыры, проеденные цингой климата в жалком слое известки, казалось, неустанно напоминали нам, что тому же самому процессу подвергаемся и мы сами. Хотя бы по контрасту дом свиданий был единственным утешением для наших измученных взглядов и не беспричинно (но не только из-за внешнего вида) носил название «лагерной дачи». К двери, которая находилась по ту сторону зоны и была доступна только для вольных, вело крепкое деревянное крылечко, на окнах висели ситцевые занавески, а на подоконниках стояли длинные ящики с цветами. В каждой комнатке было две чисто застеленные кровати, большой стол, две лавки, железная печурка и лампочка с абажуром. Чего еще мог желать зэк, годами живший в грязном бараке, на общих нарах, если не этого образца мелкобуржуазного благополучия, и у кого из нас мечты о жизни на воле приобретали форму не по этому подобию?