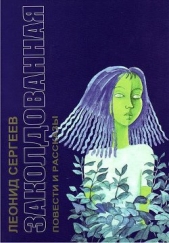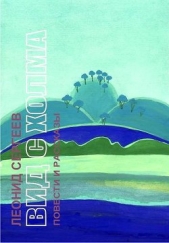Последние истории

Последние истории читать книгу онлайн
Ольгу Токарчук можно назвать одним из самых любимых авторов современного читателя — как элитарного, так и достаточно широкого. Новый ее роман «Последние истории» (2004) демонстрирует почерк не просто талантливой молодой писательницы, одной из главных надежд «молодой прозы 1990-х годов», но зрелого прозаика. Три женских мира, открывающиеся читателю в трех главах-повестях, объединены не столько родством героинь, сколько одной универсальной проблемой: переживанием смерти — далекой и близкой, чужой и собственной. Но это также книга о потребности в любви и свободе, о долге и чувстве вины, о чуждости близких людей и повседневном драматизме существования, о незаметной и неумолимой повторяемости моделей судьбы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Из кухонного окна мы смотрели на длинную, безысходную колонну людей с чемоданами и тюками. Едва светало. Я взяла на руки спящую Ляльку. Петро курил. Может, над нашей дверью был кровью выведен ангельский знак? Юрий Либерман стоял в машине, повернувшись к нам той частью лица, которая не выражала никаких чувств. «Что случилось? Почему не мы? Наверное, завтра». «Рано или поздно он узнает», — думала я. Потом Петро целыми днями спрашивал, все более отчаянно: «Почему не мы?»
Вскоре я поняла, что беременна. Пошла к тетке Маринке и во всем ей призналась. Она дала мне пощечину. Отвела в соседнюю деревню, где старуха по имени Матрена как-то устроила, чтобы у меня случился выкидыш. Я осталась ночевать у тетки, а она отправилась к Петро — сказать, что я плохо себя чувствую. Я проболела месяц. Маринка все время была рядом, потому что я не хотела жить, надеялась на Божью кару. Она думала, что из-за ребенка. А мне хотелось умереть от тоски.
Однажды появился русский солдат, поговорил на пороге с Маринкой и ушел. Тетка не сказала мне, чего он хотел. Сказала только про Петро: «Ты должна научиться любить его так, словно он не сильнее, а слабее тебя».
Командование перевели в другое место. Куда — неизвестно. Маринка потом отдала мне пакетик от Либермана, который принес тот солдат. Там был адрес, написанный на обрывке серой бумаги, по-русски, золотая цепочка с крестиком и несколько колец, и еще кусок материала, похожий на лоскут гимнастерки. Я завернула все в бумагу и закопала в саду под сливой. Запоздалые детские похороны.
Мне видится еще одна странная вещь — большой палец ноги Либермана. Немного деформированный ноготь. Палец, уничтожающий всю силу этого двуликого человека, делающий ее призрачной, гротескной. Этого пальца я стыжусь. Не стыжусь ни неистовой любви на заваленном бумагами столе, ни волн наслаждения, хотя должна бы испытывать одно лишь отвращение. То, чему следовало остаться тайным, вышло на явь.
Следующие несколько месяцев брошенные хаты занимали украинцы. Среди них были и мои родственники, например Городыцкий и Козович, но они смотрели на нас подозрительно, по-новому. Городыцкий, правда, был женат на польке, и это было явно лучше, чем иметь мужа-поляка. Женщины как-то не бросались в глаза, хотя должно быть скорее наоборот. Народы ведь берут начало в их чреве.
— Скажи мне, это правда? — спросил меня потом Петро. Его глаза испытующе вглядывались в мои.
— Неправда, — сказала я.
Дети замечают только крупные детали. Они не понимают того, что видят. Теперь я знаю, что у тебя было на уме, ты ведь всегда был старым и родился взрослым. Как же тебе было разглядеть детали? Ты не видел моего красного платья, когда мы шли на анджейки [9], не понял, что варенье в пончиках на Жирный четверг [10] — из розовых лепестков, не заметил, что я постриглась, что у меня новые сапоги, что в этом году на месте гладиолусов растут георгины, что к твоему зимнему пальто пришиты новые пуговицы.
И позже — Петро тоже никогда не обращает внимания на мои вечерние возвращения, когда я ложусь без единого слова, без сил; ночью не просыпается от моего плача, ведь старики спят крепко и дышат ровно. Его не тревожит, что я подолгу стою у окна, старательно навожу марафет, что в моей косметичке появилась новая помада, он вообще не замечает ни помады, ни косметички. Он видит целое — всегда чуть размытое, состоящее из слов, которые напечатаны на бумаге и не имеют соответствий в реальном мире, из стертых идей, из направлений, векторов, плоскостей, таблиц. Мир Петро — мир конспектов, подведения итогов и расписаний.
Кто не замечает деталей, тот ничего не знает. А кто ничего не знает, тот невольно становится жестоким.
Я хожу по снегу, по кругу, в котором замыкаю Петро, строю ему снежный дом, вычерчиваю границы его страны.
Вечером чищу щеткой костюм. Он куплен уже давно, лет пятнадцать назад, я ведь знала, что Петро умрет первым. Висел в шкафу и ждал — черный anzug [11], чистая шерсть, солидный, всегда в моде. Жалко, что я не успела переодеть Петро. Костюм ему, похоже, не нравится, потому что тело решительно сопротивляется. Теперь уж ничего не сделаешь. Петро лежит в клетчатой рубашке и вязаном свитере, в старых вельветовых брюках, протертых на коленях, в меховых шлепанцах. Я прижимаюсь лицом к колючим косичкам свитера.
Мне семьдесят шесть лет. Петро — девяносто один. Февраль 1993 года. Не знаю только, какой день. Если сегодня удастся посмотреть какие-нибудь новости по телевизору, будет ясно. Петро умер в воскресенье, повторяю я себе. Всю пятницу и субботу он стонал и держался за сердце. Я несколько раз пыталась спуститься, но все время шел снег. Такого снегопада уже давно не было. Я рисую на снегу буквы.
Сижу рядом с Петро на веранде, закутавшись в его полушубок. Глажу по руке, которая той ночью соскользнула с груди и лежит теперь рядом. Вернуть ее на прежнее место не получается. Она упряма, хотя ладони кажутся спокойными. Я трогаю ногти, белые, как снег. Подушечкой пальца пытаюсь нащупать, растут они или нет. Это по-другому, чем когда касаешься рукой живота — не зашевелился ли ребенок. Теперь-то я проверяю, совсем ли движение остановилось.
Петро терпелив. Ему нравится лежать на веранде. Теперь понятно, затем он ее и выстроил — чтобы отдыхать здесь после смерти. «Петро, — говорю я, — идет весна, она наверняка наступит. Рано или поздно будет Пасха. — Никакого ответа. — Тебе надо мак смолоть. — Кажется, иногда он слегка улыбается. — Растолочь миндаль, орехов для пирога наколоть, достать из подвала баночку хрена». Я смотрю на его белоснежные брови и запавшие щеки, посеребренные инеем или щетиной. Петро все еще красивый мужчина. Тоненькими струйками, невидимыми для глаз, неощутимыми для кончиков пальцев, протекают через него последние клочки жизни. Я точно знаю. Так, вдруг — раз и все — умереть невозможно. Нужно впустить в тело смерть, а жизни позволить свободно вылиться, капля за каплей, как из сосульки, что тает под ослепительными солнечными лучами.
Вот новые табуны пыли; через Соколовку едут немцы. Мир делится на дневной и ночной. Днем люди возятся во дворах, переговариваются через забор, ездят в город, работают, смотрят друг на друга. Петро видит, как открывают новую школу, без него. Деньги кончаются. Днем.
Ночью это не имеет значения. Ночью все таинственным образом меняется. Небо на горизонте окрашивается в оранжевый цвет, чужие дома становятся враждебными, там словно бы лязгают затачиваемые ножи; у людей во мраке стираются лица. Петро одевается потеплее, рассовывает по карманам хлеб, несколько яблок и идет в лес. Утром возвращается как ни в чем не бывало.
С той поры он со мной не спал. Его половина кровати всю ночь остается нетронутой, на покрывале ни морщинки. Белые призраки подушек — покинутых. Он молчал, со мной не разговаривал. Не смотрел даже. Утром выходил с Лялькой во двор и нарочито громко говорил по-польски. Не с кем ему было говорить. Ни Стадницкой с писклявым голосом, ни Руцинских — никого.
Петро устроился рабочим на винокуренный завод, который перешел к новым властям; потом его выгнали. Однажды кто-то принес известие, что убили Петрова брата вместе со всей семьей — беременной женой и тестем. Петро отправился туда, его не было несколько дней. Он рассказал, что опоздал — их уже похоронили; Петро сделал запись на сундуке. Родственники числятся там под неразборчивой датой сорок третьего года. «Бартоломей и Михалина, а также тесть Эмиль Окшенский». Вот и все, что от них осталось. Петро перестал прятаться в лесу, не выходил из дому, целыми днями сидел у окна, прислушивался к голосам деревни, бормотал что-то себе под нос, курил, так что пальцы пожелтели от табака. А я возилась на солнцепеке, кормила кур, он, наверное, слышал, как я твердила: «Петра не маэ вдома, пишов, не знаю, дэ вин». Малышку я брала к себе, мы спали в обнимку. Только однажды он разбудил меня ночью, все тряс за плечо, а когда я стала вырываться, грубо поставил на пол. В руке Петро держал пистолет — должно быть, из тайника достал; он насильно сунул мне его и велел прицелиться. Сказал: «Застрели меня». Пистолет дрожал, потом упал на пол.