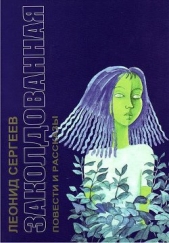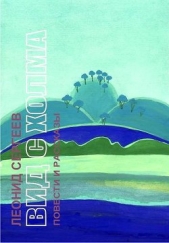Последние истории

Последние истории читать книгу онлайн
Ольгу Токарчук можно назвать одним из самых любимых авторов современного читателя — как элитарного, так и достаточно широкого. Новый ее роман «Последние истории» (2004) демонстрирует почерк не просто талантливой молодой писательницы, одной из главных надежд «молодой прозы 1990-х годов», но зрелого прозаика. Три женских мира, открывающиеся читателю в трех главах-повестях, объединены не столько родством героинь, сколько одной универсальной проблемой: переживанием смерти — далекой и близкой, чужой и собственной. Но это также книга о потребности в любви и свободе, о долге и чувстве вины, о чуждости близких людей и повседневном драматизме существования, о незаметной и неумолимой повторяемости моделей судьбы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Глубокий красный цвет ее одежд на иконе, на золоченой стене церкви, незаметно тоже обращался в голос и вливался в наш хор. Это я пела голосом святой Параскевы Пятницы. Ее бледными узкими устами. И все присоединялись — и мрачные, вибрирующие голоса мужчин, и детские колокольчики. Я почти что видела, как они взлетают к небу и сплетаются воедино, словно стволы стоящих рядом деревьев — дубов и берез. Выраставшие из них здания напоминали костелы, церкви и храмы, деревянные, ажурные. А мы были внутри этих округлых куполов, под сенью высоких стрельчатых крыш.
Я — Параскева Пятница, мученица. Похитил меня Кощей Бессмертный, забрал из теткиного дома и перебросил через полмира. Дытыну мою в жертву принес, отдал поездам на съедение. Держал меня взаперти в городах и весях, а после упрятал на тий скляний гори. Вин побудовав загорожу з тычок квасоли та загонив помидорив. Поставив пастки на смильчакив, а колы втратыв сылы, лиг на веранди и заснув. Його покрыв иний. Тепер мене стереже сниг.
Собираю мусор в кучки. Их получается три; потом я сажусь на корточки и смотрю, что там набралось. Еловые иголки, пыль, сбившаяся в комочки войлока, рисовые зернышки, обломок горелой спички, крышка от бутылки, черенок яблока, серебряный фантик, резиночка от лекарства и другие вещи, которым трудно подобрать название. Я сметаю все на совок и выбрасываю этот результат шелушения мира в печку.
Вот я что всегда любила — находить между нами отличия. Между мной и Петро. Хотелось постоянно убеждаться и напоминать себе, что мы из разного праха возникли и в разный прах обратимся.
Глаза у нас были неодинакового калибра, словно оружие. Он видел только крупные вещи, солидные, важные, сложные, занимательные. Я — маленькие и незаметные, простые, очевидные, не бросающиеся в глаза, несущественные и меленькие.
Он смотрел на целое, я — на детали. Он видел деньги, я — мелочь в кармане. Он — времена года. Я — дни недели. Он глядел в окно, а я соскабливала со стекла черные точки — мушиные отходы. Он говорил: пиджак, а я — пуговицы, переплетение ниток, ярлычок под воротником. Он видел уборку, я — мусор, полный клубков пыли, щепочек, дохлых мух и песка. Он смотрел на лес, а я — на отдельные елки и стремительно подраставшие березки да смородиновые кусты. Он видел целые годы, я — только вечера. Он — договоры, войны и мир, а я — человеческие лица, прохожих, что отворачивались и отводили глаза. Насколько важны эти различия?
Петро всегда ценил только полезное. Думаю, что в сущности он от этого страдал. Теперь на него снизошла благодать быть совершенно бесполезным. Ты мертв, Петро, и больше ни на что не сгодишься.
Когда плиту топлю я, а не Петро, огонь на удивление быстро гаснет, пепел высыпается через решетку и падает в зольник. Сразу делается холодно. Я встаю утром; вода в ведре, что стоит в сенях, затянута тоненькой ледяной коркой. Я протыкаю ее пальцем. Отправляюсь за дровами в сарай и вижу карабкающееся по горам солнце. Снег краснеет, а после меркнет у меня на глазах. Деревня внизу закутана в туман, словно заколдована. Ладно, раз уж я вышла, раз замоталась в эти сердаки [6] и куртки, пойду дальше — может, удастся вытоптать следующую линию. Э-ге-гей, смотрите сюда, низинные жители! Поднимите головы! Я вижу их, этих тупиц, как они бродят, будто лунатики, во мгле, как сбиваются с дороги, заходят в чужие дома и подбираются к чужим женам и мужьям, сбрасывая стаканы со стола и опрокидывая ночные горшки. В животе у меня щекотно от смеха. Завернувшись в Петров полушубок, я двигаюсь по сугробам поперек склона. Топ-топ-топ, туда и обратно. Дело спорится, за мной остается прямая линия.
Туман рассеется, и, проснувшись, они — если догадаются поднять голову и взглянуть на гору — увидят эту полосу. Но пока еще ничего не поймут. Дураки, все до единого. Не люблю я их, да и они меня тоже. Чертов сброд, с миру по нитке, бездомные странники. Проклятые гурали [7] и эти бездельники из центра, умники городские.
Он присматривался не один месяц, а после попросил у тетки Маринки моей руки. На бегу меня остановил. Тетка сказала: «Выходи за него, и все дела». Она-то знала. Советовала: «Прыгни с дерева. Попей настою руты. Если не поможет, сходи к бабке. Сам Бог тебе его послал, это хорошая партия».
Выйти за него — смешно, он казался мне стариком. Я его не хотела. У Петро было две комнаты над школой, в которой он учительствовал. Каждое утро он выходил во двор и загонял ребят внутрь, будто квочка. Нянька. Мне нравились другие мужчины — при мотоциклах и лошадях. А этот занимался детьми. Они его боялись. Послушно исчезали в дверях. Сейчас я думаю, учеников пугали его кустистые брови, долговязая худоба и манера выговаривать простейшие слова так, что они звучали, словно чужие.
На второй половине жила Стадницкая, старая дева, тоже учительница. Возраста она была неопределенного, но их с Петро сближало тяготение к старости. Две развалины, просто созданные друг для друга.
Стадницкая носила узкие юбки и мужские рубашки с галстуком. Каблуки стучали по школьному двору, вымощенному кирпичом. Губы накрашены так, чтобы рот казался меньше. Всегда аккуратно причесана — закрученные бубликами косы. Преподавала Стадницкая польский и пение — в теплые дни ее слабый писклявый голос долетал из открытых окон школы:
Звуки тоскливо неслись по деревне. Я никогда не видела моря — и ничего, живу. Понятия не имею про лазурь. Море знаю только по этой песне да из телевизора.
Я останавливаюсь перед зеркалом и пощипываю себя за щеки, чтобы прилила кровь. Хочу вспомнить, какой я была на первом свидании, когда мы с Петро поехали в городок — после того как тетка Маринка дала за меня согласие. Итак, темные волосы, стянутые на затылке в узел, темные брови и смуглое лицо. Цыганиха. Грудь — всегда слишком маленькая, уже потом, здесь, во времена Карабиновича, я подкладывала в лифчик вату. Тонкая талия, а под ней плоский живот и тяжеловатые бедра, здоровые, налитые. Что с ними стало теперь? Поднимаю юбку и вижу обтянутые кожей кости. Тонкие бабки — помню, Петро они всегда нравились, и он не позволял покупать туфли с перепонкой. Говорил, в них щиколотки кажутся толще. И между ногами у меня было совсем иначе — губы полные, набухшие, сочные. Теперь, подмываясь, я ощущаю пальцами неприятно тонкую кожу и сразу под ней какие-то таинственные внутренние кости. Я и не подозревала, что у меня там кости. Вот оно, старение: живая упругая ткань затвердевает, человек застывает изнутри. Теперь это обычная дырочка, чтобы пописать, не более. И ступни — чужие, даже и не скажешь, мужские или женские. Со временем вся эта суета вокруг пола затихает. Старые женщины и старые мужчины похожи.
Этой зимой мне иногда казалось, что я смотрю не на Петро, а на себя. Хоть что-то нас наконец сблизило — старость. С каждым днем мы оба уменьшались. В последнее время едва дотягивались с кровати до пола. Мне было неловко, что я болтаю ногами в воздухе, будто ребенок, будто маленькая девочка. Я ничего не говорила. Петро всегда был высокий и гордился этим. Если бы так пошло дальше, если бы затянулось на долгие годы и смерть могла опаздывать, как почтальон, приносящий пенсию, мы бы словно росли наоборот, в противоположную сторону. Пока не сделались размером с кукол. Боялись бы мышей, которых тут полно. А возможно даже — исчезни смерть вовсе — завалились бы в щели между досками, точно хлебные крошки. Эти, снизу, обнаружили бы только пустой дом. Уж они бы пошептались, посудачили вволю. Сгинули старики, пропали, словно в воду канули. Кому теперь дом достанется? Жива ли их дочь, приедет ли из Варшавы? В шкафах бы копались. Открыли бы крышку сундука и прочитали Петровы записи. Все бы выяснилось: 2 апреля 1987 года мы сеяли сельдерей, а 14-го — петрушку.