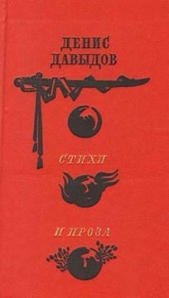Малая проза

Малая проза читать книгу онлайн
Роберт Музиль - австрийский писатель, драматург, театральный критик. Тонкая психологическая проза, неповторимый стиль, специфическая атмосфера - все это читатель найдет на страницах произведений Роберта Музиля. В издание вошел цикл новелл "Три женщины", автобиографический роман "Душевные смуты воспитанник Терлеса" и "Наброски завещаний".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
V
Путь его лежал в большой немецкий город. Тонку он взял с собой: у него было такое чувство, что он выдаст ее врагам, если оставит в одном городе с ее теткой и своей матерью. Тонка уложила свои пожитки и покинула родину легко и бездумно, как уносится ветер с закатом солнца или дождь с порывом ветра.
В новом городе она поступила на работу, опять в магазин. С работой она освоилась быстро и ежедневно выслушивала похвалы. Но почему она получала такое низкое жалованье и почему не просила надбавки, хотя ей не прибавляли плату только потому, что она обходилась и так? Все, что ей было нужно, она, не задумываясь, брала у своего друга. Иногда он с ней заговаривал о деньгах, но не из–за этого, конечно, а просто потому, что ему не всегда нравилась ее скромность и хотелось, чтобы она стала наконец умней.
— Почему ты не потребуешь, чтобы тебе больше платили?
— Я не могу.
— Не можешь, а сама говоришь, что всегда помогаешь, когда что–нибудь не в порядке.
— Да.
— Так в чем же дело?
При таких разговорах Тонка выказывала неожиданное упрямство. Она не возражала, но убедить ее было совершенно невозможно. Он мог говорить ей: "Слушай, ты же противоречишь сама себе; пожалуйста, объясни мне все–таки, в чем дело", — но ничто не помогало.
— Тонка, если так будет и дальше, я рассержусь. Тогда только, когда он заносил такую вот плетку, этот упрямый маленький мул — ее скромность нехотя трогался с места и что–нибудь вывозил на свет божий; однажды, к примеру, выяснилось, что у нее корявый почерк и еще она боится наделать ошибок; она стыдилась ему в этом признаться, так что в уголках милых губ сначала дрогнул испуг и лишь постепенно выгнулся в радугу улыбки, когда она почувствовала, что ее не осуждают за этот ужасный порок.
А он, напротив, любил такие ее изъяны, как ноготь, изуродованный во время работы. Он послал ее учиться в вечернюю школу и радовался тому, какой она там приобрела забавный почерк: стала писать с завитушками, как приказчик! Ему милы были даже всякие немыслимые суждения, которые она оттуда приносила. Она как будто приносила их во рту не разжевав; было какое–то врожденное благородство в том, как беспомощна она была перед всякой суетностью и пустотой и в то время интуитивно не впускала их к себе в душу. С поразительной безошибочностью, не умея выразить почему, она отвергала все грубое, бездуховное и пошлое, но у нее совершенно отсутствовало желание выйти за пределы собственного круга понятий; она была чиста и невозделана, как сама природа. Совсем не просто было любить такую простушку. А иногда она поражала его знанием вещей, которые были бесконечно от нее далеки, — даже в химии; когда он, увлекшись, рассказывал что–нибудь скорее вслух самому себе, вдруг обнаруживалось, что она знает это, знает то. Разумеется, в первый же раз он удивился и спросил ее. Брат ее матери, живший одно время у них в маленькой пристройке за домом свиданий, был студентом. "А где он сейчас?" "Он умер сразу после экзаменов". — "И ты все это запомнила?" — "Я была совсем еще маленькая, — рассказывала Тонка, — но когда он учил, я должна была его спрашивать. Я не понимала ни слова, но он писал мне вопросы на бумажках." Точка. И больше десяти лет все это лежало в ящичке, как красивые камешки с неизвестными названиями! Вот и сейчас, когда он работал, все ее счастье было в том, чтобы молча сидеть рядом. Она была природой, которая только еще начинает одухотворяться, — не то чтобы сознательно хочет стать духом, но любит его и инстинктивно тянется к нему, как одно из многих существ, прибившихся за тысячелетия к человеку.
Его отношение к ней в то время было непростым и в равной мере далеким и от влюбленности, и от легковесности. Собственно говоря, еще у себя на родине они поразительно долго были безгрешны. Они виделись вечерами, ходили вместе гулять, рассказывали друг другу о всяких мелких дневных происшествиях и огорчениях, и это было так же приятно, как есть хлеб, посыпанный солью. Позже он, разумеется, снял комнату, но сделал это просто потому, что так полагается, и еще потому, что нельзя же зимой целыми днями торчать на улице. Там они впервые поцеловались. Получилось несколько скованно — скорее подтверждение, чем удовольствие, — и губы у Тонки от волнения стали совсем жесткими и сухими. Тогда же они заговорили и о том, чтобы "принадлежать друг другу целиком". То есть завел разговор он, а Тонка молча слушала. С убийственной четкостью, навек врезающей в память однажды совершенную глупость, он вспоминал позже свои юношески–назидательные рассуждения о том, что это неизбежно, что лишь после этого люди до конца раскрываются друг другу, — так вот они и разрывались между чувством и теорией. Тонка сначала уговаривала его подождать несколько дней. Наконец он оскорбился и спросил, такая ли уж это для нее огромная жертва. Тогда они назначили день!
И Тонка пришла. Она была в обычном своем темно–зеленом жакетике, голубом берете с черным помпоном, и щеки ее порозовели от быстрой ходьбы на воздухе. И вот она накрывает на стол, готовит чай. Только чуть сосредоточенней, чем обычно, и смотрит исключительно на то, что в эту секунду держит в руках. И хотя он целый день прождал ее с нетерпением, сейчас он сидит на диване, весь застывший, одеревеневший от юношеской неловкости, и наблюдает за ней. Он сразу понял, что Тонка не хотела думать о неизбежном, и вдруг пожалел, что назначил твердый срок — как судебный исполнитель! Но он только сейчас сообразил, что ему надо было бы застигнуть ее врасплох, взять ее лаской и уговорами.
Радости не было и в помине, — скорее он робел, стыдясь поднять руку на эту свежесть, овевавшую его как прохладный ветер при каждой встрече. Он попытался убедить себя в том, что рано или поздно это должно случиться, и, когда он следил за непроизвольными движениями Тонки, ему показалось, что его мысль петлей захлестнулась вокруг ее ног и с каждым оборотом притягивает ее все ближе и ближе.
Молча поужинав, они сели рядом. Он попытался сострить, Тонка попыталась рассмеяться. Но губы ее натужно скривились, и она сразу стала серьезной.
И тут он спросил:
— Тонка, а ты хочешь? Ты в самом деле согласна?
Тонка опустила голову, и в ее глазах будто что–то промелькнуло, но она не сказала "да" и не сказала "я тебя люблю", а он наклонился к ней и, вконец смутившись, начал тихим голосом ее уговаривать:
— Знаешь, сначала это кажется непривычным, наверное даже грубым. Но ты подумай, не можем же мы… понимаешь, ведь это же не просто так… А ты тогда закрой глаза. Ну?..
Кровать уже была постелена, и Тонка встала и пошла к ней, но вдруг в нерешительности села рядом на стул. Он окликнул ее:
— Тонка!..
Она опять встала и, отвернувшись, начала раздеваться.
Неблагодарная мысль омрачила этот сладкий миг.
Приносила ли Тонка себя в жертву? Он не обещал любить ее, — почему же она не возмущалась положением, исключавшим для нее всякую надежду? Она все делала молча, как рабыня по приказу господина, — так, может быть, она и другому подчинится так же, стоит тому пожелать? А она уже стояла во всей обреченности своей первой наготы, и кожа ее, как слишком узкое платье, так трогательно обтягивала тело; его плоть оказалась человечней и умней, чем его юношеский заносчивый ум, и когда он в следующую секунду взметнулся с дивана, Тонка, как бы желая спрятаться от него, странно неловким и непривычным движением скользнула в кровать.
Он запомнил только одно: проходя мимо стула, он вдруг ясно ощутил, что самое привычное и родное осталось тут, вместе с ее сброшенной одеждой, так хорошо ему знакомой; на него пахнуло тем милым ароматом свежести, который он первым делом ощущал, когда они встречались; а в постели его ждало незнакомое и чужое. Он помедлил секунду; Тонка лежала с закрытыми глазами, повернувшись лицом к стене, вытянувшись и замерев в неизбывном тоскливом одиночестве. Когда она почувствовала его около себя, к глазам ее прихлынули теплые слезы. Потом пришла новая волна страха, ужаса от сознания своей неблагодарности; нечленораздельное слово мольбы, вырвавшееся из бездонных темных глубин, превратилось в его имя, — и она уже принадлежала ему; вряд ли он и понял, с какой чарующей, детски–отчаянной храбростью она прокралась в него, какую немудреную хитрость она придумала, чтобы завладеть всем, что она в нем боготворила: надо просто отдать ему себя целиком, и тогда ты с ним станешь одним целым. А он уже и не помнил потом, как это случилось.