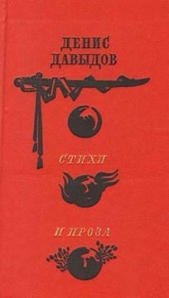Малая проза

Малая проза читать книгу онлайн
Роберт Музиль - австрийский писатель, драматург, театральный критик. Тонкая психологическая проза, неповторимый стиль, специфическая атмосфера - все это читатель найдет на страницах произведений Роберта Музиля. В издание вошел цикл новелл "Три женщины", автобиографический роман "Душевные смуты воспитанник Терлеса" и "Наброски завещаний".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну хватит, — сказала мать. — Неужели ты не чувствуешь, что твои замечания неуместны?
Он проглотил этот выговор не из робости, а потому, что вдруг страшно обрадовался, что Тонка не плакала. Родственники были возбуждены, перебивали друг друга, но он заметил, что за интересами своими они следили неукоснительно. Говорили они неприятными голосами, но очень бойко, не стесняясь поднятого гама, и в конце концов каждый получил, что хотел. Умение говорить было не средством выражения мысли, а капиталом, украшением, выставленным напоказ; стоя перед столом с подарками, он вспомнил стихи: "Ему с крылатою мечтою послал дар песней Аполлон" — и впервые понял, что это действительно дар. Какой бессловесной была Тонка! Не умела ни плакать, ни говорить. Но если что–то не может выразить себя в слове и остается невысказанным, то, беззвучно канув в гомоне человеческом, оставляет ли оно хоть какую–нибудь зарубку по себе, хоть малую царапину на скрижалях бытия? Такой поступок, такой человек, такая средь ясного солнечного дня одиноко упавшая с неба снежинка — реальность она или воображение, хороша, безлика или плоха? Здесь, как видно, наши понятия подходят к той грани, где они теряют всякую опору. И он молча вышел из комнаты, чтобы сказать Тонке, что возьмет на себя заботу об ее судьбе.
Он застал фройляйн Тонку за сбором пожитков. На стуле лежала картонная коробка, еще две стояли на полу. Одна уже была перевязана бечевкой, но обе другие явно отказывались вместить разбросанные кругом богатства, и фройляйн прикидывала в уме, вытаскивала то одну, то другую вещь — чулки и платочки, шнурованные сапожки и катушки с нитками, — примеряла в длину и ширину и, как ни скудно было ее приданое, никак не могла его втиснуть, потому что саквояжи ее были еще скромней.
Дверь в комнату была распахнута, и он мог некоторое время наблюдать за Тонкой, оставаясь незамеченным. Когда она его увидела, то залилась краской и быстро встала перед раскрытыми коробками.
— Вы уже нас покидаете? — сказал он и обрадовался ее смущению. — А что вы собираетесь делать?
— Поеду домой к тете.
— И там останетесь?
Фройляйн Тонка пожала плечами.
— Постараюсь куда–нибудь устроиться.
— А тетя не будет вас попрекать?
— На несколько месяцев у меня денег хватит, а за это время я куда–нибудь устроюсь.
— Но вы же истратите все свои сбережения.
— Что поделаешь.
— А если вы не сразу найдете работу?
— Ну что же, тогда меня опять каждый день будут этим попрекать.
— Попрекать? Чем?
— Ну, что я ничего не зарабатываю. Уже было так — когда я работала в магазине. Зарабатывала я мало, но что я могла сделать? Вообще–то она никогда ничего не говорила. Только когда сердилась — но тут уж не смолчит.
— И потому вы пошли работать к нам? — Да.
— Знаете что, — сказал он вдруг. — Вы не поедете к своей тете. Вы что–нибудь найдете. Я… Я вам помогу.
Она не сказала ни "да", ни "нет", ни "спасибо"; но когда он ушел, она медленно вынула все вещи одну за другой из картонок и разложила по своим местам. Она страшно покраснела, не могла собраться с мыслями, долго смотрела перед собой, держа в руке очередную тряпку, и потом поняла: это уже любовь.
А он, вернувшись в свою комнату, где на столе лежали все те же "Фрагменты" Новалиса, перепугался ответственности, вдруг взятой на себя. Неожиданно произошло что–то, что отныне должно было определять его жизнь, хотя вовсе не так уж близко его касалось. Может быть, он в эту минуту даже насторожился — оттого, что Тонка так просто приняла его предложение.
Но тут он вдруг подумал: "А с чего я вообще ей это предложил?" — и не смог ответить на этот вопрос, как и на вопрос о том, почему она согласилась. У нее лицо было такое же растерянное, как и у него. Ужасно глупое положение; как во время падения во сне — никак не можешь долететь до земли. Но он еще раз поговорил с Тонкой. Он не хотел быть неискренним. Говорил о полной свободе, о духовных запросах, о неприязни ко всем голубиным идиллиям, о возможных встречах с необыкновенными женщинами — как говорят все очень молодые люди, которые мало пережили, но многого хотят. Когда он заметил, что Тонкины ресницы дрогнули, он, вдруг испугавшись, что сделал ей больно, взмолился:
— Только вы поймите меня правильно!
— Я понимаю! — ответила ему Тонка.
IV
Все говорили: "Она же совсем простая девушка! Из магазина!" Ну и что? Другие женщины тоже ничего не знают и нигде не учились. Но нет, надо обязательно что–то нацепить на человека, какой–то опознавательный знак навек. Надо чему–то выучиться, приобрести принципы, положение в обществе; человек сам по себе ничего не значит. А каковы были они, те, у которых все есть, кто что–то значит? Да, возможно, мать боялась, что сын повторит ошибку ее собственной жизни — она в своем выборе оказалась недостаточно горда; ее муж был всего–навсего простым лейтенантом — обыкновенный жизнерадостный остряк, его отец. Она хотела в сыне исправить свою неудавшуюся жизнь, она за это боролась. В принципе он одобрял ее гордость. Но почему мать ни капельки его не трогала?
Она была воплощением долга; брак ее приобрел смысл лишь с болезнью отца. Как готовый к бою солдат, как часовой, отбивающийся от превосходящих сил противника, встала она тогда у постели медленно впадавшего в идиотизм супруга. До тех пор она тянула эту нескончаемую волынку с дядей Гиацинтом. Он был им вовсе не родственник, просто друг дома, один из тех дядей, которых дети, едва успев открыть глаза, уже находят в семействе, — старший советник по финансовым вопросам и, по совместительству, популярный немецкий писатель, проза которого выходила солидными тиражами. Он принес в жизнь матери отблеск высоких идей и светского лоска, скрашивавший трагическое одиночество ее души, был начитан в истории, и потому его мысли, свободно обнимая тысячелетия и кардинальные вопросы бытия, казались тем гениальней, чем они были бессодержательней. По причинам, так и оставшимся для мальчика неясными, этот человек в течение многих лет питал к его матери восторженную, беззаветную и терпеливую любовь; может быть, потому, что мать, как истая дочь офицера, обладала четкими представлениями о характере и чести и ежеминутно излучала одним своим присутствием ту самую твердость принципов, которая нужна была ему для идеальных героев его романов, в то время как сам он смутно ощущал, что легкость его речи и слога происходила как раз от недостатка такой твердости. Но поскольку он, естественно, не хотел себе в этом признаваться, он убедил себя, что это вовсе не недостаток, а признак вселенской скорби, и необходимость искать поддержки в чужой стойкости воспринимал как извечный жребий всякой универсальной души. Разумеется, и даме при этом кое–что перепадало от сладостного кубка возвышенного страдания. Они тщательно скрывали свои отношения даже от самих себя, считая их чисто духовными узами, но это удавалось не всегда; время от времени Гиацинт совершал рискованные оплошности, приводившие их в ужас, и они каждый раз терялись перед дилеммой: пасть ли окончательно или, не смущаясь, снова мужественно шагать к прежним высотам. Но когда заболел супруг, их смятенным душам представилась желанная опора, и они, цепляясь за нее, могли каждый раз возвышаться духовно на тот самый сантиметр, которого им в данный момент не хватало. Отныне супруга была прочно ограждена стеной долга; если ей и случалось еще согрешить в душе, она компенсировала этот грех удвоенным рвением в уходе за больным, и простой, непреложный закон избавлял теперь их мысль от того колебания между велением страсти и велением долга, которое доставляло им особенно много хлопот.
Вот так и выглядели эти люди, которые что–то значили, — вот так проявлялся их дух, их характер. И сколько бы ни встречалось в Гиацинтовых романах любви с первого взгляда, человек, который без оглядки пошел бы за другим человеком — как зверь, знающий, где можно пить, а где нельзя, показался бы им диким, первобытным существом без малейшего представления о морали. В результате сын, испытывавший жалость к животной кротости отца, при всяком удобном случае атаковал Гиацинта и мать как своего рода духовную чуму, и потому его скоро отнесло в противоположном направлении, благо современная эпоха была так богата разнообразными возможностями. Всесторонне одаренный мальчик изучал химию и слышать не хотел о вопросах, не поддающихся однозначному решению, — больше того: он стал ярым врагом всяких разглагольствований и фанатическим приверженцем холодного, сухого, фантастического в своей сухости и воинствующего в своей новизне инженерного мышления. Он ратовал за уничтожение чувств, против стихов, добра, добродетели, простоты; певчим птицам нужен сук, на котором они могут сидеть, а суку нужно дерево, а дереву — бессловесный бурый перегной; сам же он просто парил в воздухе вне рамок времени; за этой эпохой, которая в равной мере строит и разрушает, придет другая, для которой мы с таким самоотречением, с таким аскетизмом закладываем фундамент, и только тогда люди поймут, каково было у нас на душе, — вот так примерно он рассуждал; надо стать суровым и сдержанным, как в полярной экспедиции. Немудрено, что уже в школе на него обратили внимание; студентом он выдвинул несколько изобретательских идей, собирался после получения докторской степени за один–два года их осуществить и потом с математической неотвратимостью подняться на том сияющем горизонте, каким представляет себе молодежь неясное, но всегда блистательное будущее. Тонку он любил потому, что не любил ее, потому что она не затрагивала его души, а просто омывала ее как проточная вода; но по–своему он любил ее даже больше, чем сам думал, и когда мать, почуявшая опасность, но не уверенная в справедливости своих подозрений, начала мало–помалу предпринимать осторожные, но целенаправленные расследования, он заторопился: сдал все экзамены и уехал из родительского дома.