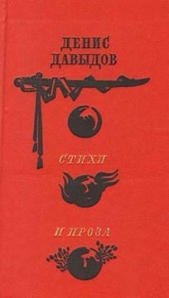Малая проза

Малая проза читать книгу онлайн
Роберт Музиль - австрийский писатель, драматург, театральный критик. Тонкая психологическая проза, неповторимый стиль, специфическая атмосфера - все это читатель найдет на страницах произведений Роберта Музиля. В издание вошел цикл новелл "Три женщины", автобиографический роман "Душевные смуты воспитанник Терлеса" и "Наброски завещаний".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А еще как–то они сидели на опушке леса, он смотрел, сощурив веки, только сквозь узкую щелочку между ними и молчал, занятый своими мыслями. Тонка испугалась, решив, что опять его чем–то рассердила. Она несколько раз набирала воздух, ища слов, но тут же робела и сникала. Так они сидели долго в полном молчании, и кругом был слышен только томительный лепет леса, ежесекундно возникавший и умолкавший то тут, то там. Один раз между ними вспорхнула бабочка и уселась на цветок с тонким высоким стеблем; цветок вздрогнул от прикосновения и закачался, а потом вдруг сразу замер, как оборвавшийся разговор. Тонка крепко вдавила пальцы в мох, на котором они сидели; но крохотные стебельки через секунду вновь выпрямились, ряд за рядом, и еще через секунду изгладился всякий след от лежавшей на них руки. Хотелось плакать, неизвестно почему. Если бы Тонка была научена думать так, как ее спутник, она почувствовала бы в эту минуту, что природа состоит сплошь из невзрачных малостей, существующих в такой же тоскливой отъединенности друг от друга, как звезды в ночи; божественная природа; по его ноге поползла оса, голова ее была похожа на фонарь, и он все время следил за ней. И смотрел на свой широкий черный ботинок, косо перечеркивающий бурую полосу дороги.
Тонку и раньше охватывал страх при мысли, что однажды на ее пути встанет мужчина и ей уже никуда не удастся свернуть. То, о чем с горящими глазами рассказывали ей старшие подружки–продавщицы, было торопливой и грубо–легкомысленной чувственностью, и всякий раз, когда мужчина и с ней пробовал перейти на нежности, она ощетинивалась после первых же его слов. Сейчас, когда она смотрела на своего спутника, ее вдруг что–то кольнуло в сердце; до этой минуты она не задумывалась над тем, что находится в обществе мужчины, потому что тут все было по–другому. Он лежал на спине, широко раскинув ноги, опершись на локти и опустив голову на грудь; Тонка почти с испугом украдкой заглядывала ему в глаза, а в них была какая–то странная улыбка; он закрыл один глаз, глядя другим вдоль своего тела; он явно сознавал, что его торчащий ботинок некрасив, и, наверное, сознавал также, что не Бог весть как это много — лежать рядом с Тонкой на опушке леса, но ничего не мог поделать: все по отдельности было некрасиво, а все вместе было счастьем. Тонка тихонько поднялась. Кровь застучала вдруг у нее в висках, сердце заколотилось. Она не понимала того, что он думал, но она все читала в его взгляде, и вдруг ей захотелось обхватить его голову и закрыть ему глаза. Она сказала:
— Надо идти, а то совсем стемнеет. Когда они вышли на дорогу, он сказал:
— Вы, наверное, скучали, но ко мне надо привыкнуть. Он взял ее под руку, потому что смеркалось, и начал
оправдываться за свою молчаливость и — уже непроизвольно — за свои мысли. Она не понимала того, что он говорил, но она по–своему разгадывала его слова, звучавшие так серьезно в вечернем тумане. Когда же он начал извиняться еще и за эту свою серьезность, она совсем запуталась, а пресвятая дева Мария только подсказала ей, что надо крепче прижаться к его руке, и Тонке стало ужасно стыдно.
Он погладил ее руку.
— Мы с вами добрые друзья, Тонка, но — понимаете ли вы меня?
Помедлив, Тонка ответила:
— Не важно, понимаю я или нет, я ведь все равно не сумею ответить. Но мне нравится, что вы такой серьезный.
Конечно, это все были мелочи, но как странно, что ей пришлось пережить их дважды — одни и те же! Собственно говоря, они были с ней все время. И она не могла понять: как же это они позже вдруг стали означать прямую противоположность тому, что означали в первый раз? Такой неизменной оставалась Тонка, так проста и прозрачна была ее душа, что это было похоже на галлюцинацию, — как будто тебе вдруг привиделись наяву совершенно невероятные вещи.
III
Потом случилось уже событие — его бабушка безвременно скончалась; события ведь всегда происходят вне определенного времени и места — положат тебя куда–нибудь или просто забудут, и ты лежишь заброшенный, как никому не нужная вещь. Но то, что произошло намного позже, случается в мире тысячу раз в день, и невозможно только понять, почему это случилось именно с Тонкой.
А пока все шло строго по порядку, как полагается в приличных семьях: появился врач, пришли служащие похоронного бюро, выписали свидетельство о смерти, бабушку похоронили. С наследством, слава Богу, все обошлось без тягостных формальностей, — за исключением одного–единственного пункта завещания, касавшегося фройляйн Тонки с фантастической фамилией — одной из тех чешских фамилий, которые в переводе оказываются чем–нибудь вроде "Певунчик" или "По лугу шел". Существовал договор, согласно которому фройляйн Тонке, помимо жалованья, очень незначительного, за каждый полный проработанный год полагалась определенная сумма по завещанию, а поскольку семейство рассчитывало, что бабушка проболеет дольше и, предвидя обременительность ухода за больной, на всякий случай распределило ежегодную сумму по принципу постепенного нарастания, то в результате получился совершенный пустяк, который особенно возмутил молодого человека, исчислявшего потерянные месяцы молодой Тонкиной жизни в минутах. Он присутствовал при том, как Гиацинт производил с ней расчет. Он сделал вид, что читает книжку — это были все еще "Фрагменты" Новалиса, — но на самом деле он внимательно за всем следил, и ему стало стыдно, когда его дядя назвал сумму. Да и тот, видно, тоже ощутил что–то похожее на стыд, потому что начал подробно объяснять фройляйн условия заключенного в свое время контракта. Фройляйн Тонка внимательно слушала его, плотно сжав губы, и с трогательной серьезностью следила за всеми выкладками.
— Значит, мы в расчете? — сказал дядя и выложил деньги на стол.
Она, скорее всего, ничего не поняла, вынула из кармана юбки маленький кошелечек, свернула бумажки и засунула их в него; но так как ей пришлось свернуть их в несколько раз, то, хоть их и было очень немного, комочек получился довольно толстый и уместился там еле–еле; раздувшийся кошелек оттопыривался у нее на боку под юбкой, как желвак.
Теперь у фройляйн был еще только один вопрос:
— Когда мне уходить?
— Н-да, — сказал дядя, — ну, несколько дней у вас еще займут всякие формальности; до тех пор вы, конечно, можете остаться. Но можете уйти и раньше — когда захотите: ваши услуги нам ведь больше не нужны!
— Спасибо, — сказала фройляйн и ушла в свою комнатку.
Тем временем другие приступили к распределению мелкой утвари. Они были похожи на волков, пожирающих убитого собрата, и уже успели порядком друг друга взвинтить, когда он спросил, не дать ли фройляйн по крайней мере какой–нибудь ценный подарок, раз денег ей досталось так мало.
— Мы уже ей выделили бабушкин большой молитвенник.
— Да, но ей наверняка было бы приятнее получить что–нибудь более существенное; что вы собираетесь делать вот с этим, например? — Он взял в руки коричневый меховой воротник, лежавший на столе.
— Это для Эмми. — Эмми была его кузина. — Да и как можно — это же норка!
Он рассмеялся.
— Кто сказал, что бедным девушкам непременно надо дарить только что–нибудь душеспасительное? Вы хотите прослыть скупердяями?
— Ну знаешь, не вмешивайся не в свое дело, — заявила мать, но, сознавая, видимо, что он не так уж неправ, продолжала: — Ты же этого не понимаешь; не обделят ее, не бойся! — И она широким жестом раздраженно отложила для фройляйн несколько носовых платков, рубашек и панталон умершей, а также черное платье из совсем еще нового сукна. — Ну вот этого, надеюсь, хватит? Не так уж твоя фройляйн и старалась, и сентиментальной ее тоже не назовешь: ни после смерти бабушки, ни во время похорон она не выдавила из себя ни слезинки! Так что, пожалуйста, успокойся.
— Некоторые люди просто не так легко плачут; это же не аргумент, ответил сын не потому, что считал важным это сказать, а потому, что ему нравилась собственная находчивость.