Праздник побежденных: Роман. Рассказы
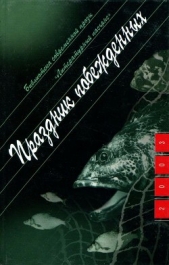
Праздник побежденных: Роман. Рассказы читать книгу онлайн
У романа «Праздник побежденных» трудная судьба. В годы застоя он был объявлен вне закона и изъят. Имя Цытовича «прогремело» внезапно, когда журнал «Апрель», орган Союза писателей России, выдвинул его роман на соискание престижной литературной премии «Букер-дебют» и он вошел в лучшую десятку номинантов. Сюжет романа сложен и многослоен, и повествование развивается в двух планах — прошедшем и настоящем, которые переплетаются в сознании и воспоминаниях героя, бывшего военного летчика и зэка, а теперь работяги и писателя. Это роман о войне, о трудном пути героя к Богу, к Любви, к самому себе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я смотрел ему вслед, и ромб между ног на просвет то вытягивался, то плющился квадратом. И чего я обратился к этой сволочи? А он, обходя танк, крикнул танкисту:
— Когда они по парашютам бьют, то в обморок не падают. В небе они — во! — и он крыльями развел руки, — орлы! А на земле, — и он обронил руки, — мокрые курицы.
— В небе они крови не видят, авиация — она чистенькая, — рассмеялся танкист, — какава, шоколад, кроватка с простыней…
Я налегал на ограду и думал: как я могу говорить с ним? Как? Но почему, когда я обратился к Богу, на мое плечо легла рука, его рука? Вот тебе и правда.
Перед лицом возникли сапоги с задранными носами. Я молчал. Фатеич помочился и, протопив в снегу норку, виновато сказал:
— Иди, Фелько, телега выехала, иди.
Я пошел к самолету, достал из кабины бутылку и, сунув ее под полушубок, догнал телегу в переулке. Возница с карабином поперек раззявленной на спине шинели с оборванным хлястиком правил, сидя кулем. Второй, с кривым глазом и щербатыми зубами, свесил с борта валенки. Из телеги торчали держаки да крючья, а под рогожами студенисто тряслось. Я взялся за колесо, которое примерзло и, не прокручиваясь, скользило. Так и шагал, слушая человеческую речь.
— Яму все одно рыть не будем, сгребем в овраг и баста, — сказал возница и зло покосился на меня.
Ему очень не нравилось мое присутствие.
— А может, бахнем? — спросил кривой.
— Пущай Гитлер им бахает, а нам приказу не было, чтоб толу на предателя тратить, да и где сказано, чтоб закапывать ишо в новых сапогах, с выворотными халявами, да с союзками совсем не битыми, — взъярился возница, зло глядя на меня.
Ах, вон как, я мешаю им, мешаю снять сапоги и просто вывалить тела в овраг.
Колеса хрустко резали снег. Перемешались домики. Надвинулось лицо кривого.
— А дружка вашего, старший лейтенант, не били, целехонький, может, он его того, в напраслину? Поспешили малость?
Я промолчал, а возница заерзал на доске.
— Как в напраслину? Как? Оружье супротив власти нашей Советской в руки брал аль нет? Брал? Я спрашиваю?
— Оно, может, и брал, но может, и не стрелял, — лукавил кривой.
— Ты есть тыловой крыс, — остервенел возница, — а я еще, может, в сорок первом под Конотопом миной в жо… раненный.
— Не казал бы ж… так оно бы того, пролетело б, — съязвил кривой.
В голове моей ворочалось: конечно, в ж… конечно, под Конотопом, конечно, миной такого старика-ездового и должно. А Ванятка, вот он, под рогожей коченеет, и вовсе не странно. А странно то, что я жив и иду за телегой по этому городу, о котором никогда не слышал, а вокруг снега.
— Куда прикажете, старшой лейтенант? — спросил ездовой и — весь вниманье — поднял наушник. Я увидел, что перед нами ледяное поле и далеко тот берег с фиолетовой тенью, а на холме сиреневая щетина леса и почерневшая бревенчатая колокольня.
— Давай за реку, к скиту в лесу.
Ездовой поразглядывал солнце — оно было красным в заиндевелых сетях берез — и крякнул:
— Далече. Лошади по льду не пойдут, не шипованы они.
Я не понимал ничего в шипах, но знал другое — если израненные старики, которых по непонятным законам еще держат в армии, заупрямятся, то лошади действительно не пойдут. Я молча протянул ездовому бутылку. И пока кривой стоял с протянутой рукой, жадно глядя на возницу, тот выкусил пробку, прополоскал спиртом рот, сглотнул и сказал:
— Он… ей боже! В грудях тает.
Кривой тоже отпил, скривился со слезой на бураковой роже и с открытым ртом попребывал в раю.
— Теперя лошади пойдут — аж полетят, — сострил он. Возница насупился, но повернул к реке, и лошади сторожко ступили на лед.
Кривой не пожалел двух банок тола и, пока раненый миной ездовой распарывал шов и стягивал сапог с окоченелой ноги власовца, заложил шнур и банки ахнули, вспугнув воронье. Так мы и похоронили Ванятку на том берегу, у почерневшей от веков деревянной часовенки. Вокруг стояли заиндевелые, будто в восковых цветах ракиты, за ними — лес.
А помянули его уж в сумерках. Возница немецким штыком вспорол тушенку, и мы на телеге средь крючьев и держаков пили чистый спирт, заедая снегом, мерзлым хлебом и жирной чикагской тушенкой. Кривой как-то сразу охмелел и развоевался, потянул с телеги карабин. Возница уговаривал его, материл, потом махнул рукой. И кривой, с оборванным хлястиком, стоя над оврагом, ухал в ночь трассирующими. Пули, касаясь льда, уходили в темень то красными, то сизыми спицами. Опустошив бутылку, мы забрались в телегу и с гиком, свистом, с матерной бранью пустили лошадей в галоп. Лед ухал, трещал, эхо неслось по всей реке. Я все оглядывался назад — бледный месяц повис над ракитами. А в телеге при его мертвенном свете подпрыгивал и вызванивал похоронный инструмент.
Генерал сердито посмотрел на меня и коротко спросил:
— Долетишь?
— Долечу, — ответил я, — только бы в кабину сесть. — И испугался, что запретит, и забормотал, что на истребителе хорошо, что на нем «стоит надеть маску, нажать кислород» и вздохнуть и — просветлен… А тут нужно обязательно, чтоб мотор заработал, нужно снять шлем и высунуть голову в струю, и тоже — просветлен…
Генерал кивнул танкисту. Танкист крутанул винт, и мотор зарокотал.
Солдаты с бидоном керосина пошли в ночь. На том конце площади вспыхнул костер и выдвинул из темноты малиновую колокольню, фасад и лик Божий с поднятым перстом.
Я должен был что-то сделать. А что? Ах да, Фатеич! Я выбрался из кабины и нашел его в душном подвале при свете каганца с шинелью на коленях и иглой в руке. Он поднял свою тяжелую голову и виновато улыбнулся.
— Фатеич, — сказал я, и пламя над гильзой качнулось, — Фатеич, в жизни своей я не спал ни с одной женщиной.
Я не знал, что заставило меня сказать эту несуразицу, эту чушь, но я попал. Он побелел и заулыбался еще шире, еще виноватее, наколол палец, пососал кровь и ответил:
— Красивый ты, Фелько, и грех на душу берешь — женщин портишь да обманываешь старика. А вот на мне бабьего греха нет.
— Не было у меня женщин, не было, — хрипел я, — матерью клянусь, не было.
Он снял очки, и глаза стали добрыми и жалкими в трясинках глазниц и, не в силах удержать лошадиных размеров голову, обронил ее на грудь, моргая и всхлебывая воздух. Я понял, что принес ему величайшие муки, и торжествовал.
— Ты шутишь, Фелько, — наконец, заговорил он чужим плачущим голосом. — Ударь меня, плюнь в лицо, но скажи, что пошутил.
— Я б ударил и плюнул, если б это было не так.
— Так я и знал, — тихо сказал он, — и у меня была одна, за всю жизнь, не долго, но одна, но ты никогда не узнаешь, кто, — и его горбатая тень, полежав на краснокирпичной стене, распрямилась. Он сказал твердо: — Ты был в плену и скрыл это. Власовец спас тебя, я знаю, но он оружие против Советской власти в руки взял, и иначе было нельзя. А ты ответишь за обман! Ответишь! Слышишь?
Я плюнул ему в лицо, он стоял, опустив голову и не вытираясь. Я вышел из подвала, сел в кабину и дал газ, одновременно нажимая на педали, раскачивая самолет, чтоб лыжи от снега отлипли. Самолет тронулся и понесся на костер. Я видел, как разбегаются солдаты. А когда машина повисла в развороте, а солдаты там, внизу теперь уже закидывали снегом огонь, в его свете я опять увидел прокопченный Божий лик на фронтоне. Я сказал ему много нехороших слов и прибавил: «Бога нет, ну, а если ты есть, то сделай, чтобы я не долетел, чтобы рухнул в снега, чтобы валялся обледенелый в дюралевых обломках».
Я долетел.
Феликс лежал в машине, курил — и уж не думал о рыжей женщине, ибо война снова стала самым главным событием в его жизни. Он хотел еще почитать о Фатеиче, об их встрече после освобождения из лагерей, почитать о мести, когда он с ножом в кармане пересек страну. Но глаза то ли от усталости, то ли от дыма, матово налитого в кабине, слезились и болели. Он решил вовсе кончить выпивать, дописать роман, но подсознательно чувствовал, что роман не нужен никому, и никогда ему не дописать его, как не спасти Ванятку, как не найти могилу мамы. Он провалил дело с Фатеичем после войны, как, впрочем, и все то, за что брался в своей жизни со всей душой и полной отдачей сил. Все приводило к неминуемому, казалось, запрограммированному в нем самом краху. Он жалел себя, но знал, что несет в себе проклятье. «За что? — спрашивал он. — За что я вижу в жизни только несчастья?» Глядя на калек, он убеждал себя, что им и вовсе плохо. А вот его руки и ноги целы, и он видит светлый мир над головой. Но инвалиды смеялись, находили место в жизни и были счастливы, а он страдал.

























