Праздник побежденных: Роман. Рассказы
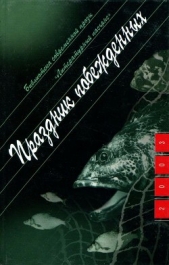
Праздник побежденных: Роман. Рассказы читать книгу онлайн
У романа «Праздник побежденных» трудная судьба. В годы застоя он был объявлен вне закона и изъят. Имя Цытовича «прогремело» внезапно, когда журнал «Апрель», орган Союза писателей России, выдвинул его роман на соискание престижной литературной премии «Букер-дебют» и он вошел в лучшую десятку номинантов. Сюжет романа сложен и многослоен, и повествование развивается в двух планах — прошедшем и настоящем, которые переплетаются в сознании и воспоминаниях героя, бывшего военного летчика и зэка, а теперь работяги и писателя. Это роман о войне, о трудном пути героя к Богу, к Любви, к самому себе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наконец заскрипел замок, и Феликс увидел, что стоит на крыльце и отпирает дверь. Она стояла у открытой двери, задумчиво глядя в парк. Над ним мутно рдела лампочка, и тень листвы притихла у их ног.
— Который час? — спросила она.
— Полпервого.
— Значит, я уже родилась.
Он удивленно поднял лицо.
— Да-да, Феликс, ровно двадцать пять лет назад в Ленинграде, в старом кирпичном доме, который жильцы почему-то прозвали «Барселона», в доме, в котором много прокопченных сводов, решеток и крыс, в начале первого родилась девочка, ее назвали Наташа… — она повернула Феликса за плечи и зашептала: — Сегодня мне двадцать пять. И когда же ты поцелуешь меня?
«Она сумасшедшая или шлюха», — опешил Феликс, но сказал иное:
— Так сразу и поцеловать?
— А тебя что, уговаривать надо? Ты этого желаешь? — и зазвучал смех.
Слова падали, как камни, ступени под его ногами скрипели и стали мягки, он ухватился за косяк и забормотал нечто о лагерях и уголовниках, и достоин ли он, и действительно ли она его желает! А не лучше ли режиссер? — и говорил, говорил нечто о свободной любви.
Он говорил, чувствуя спиной черный провал двери, и ловил себя на том, что рухнет в этот провал, и уж более ему не встать, и в то же время так страстно желал упасть. Потом приблизилось ее лицо, волосы и грудь. Он попятился, а она шептала:
— Ты глух? Ты слеп? Ты и на танцах ничего не понял? Тебе что ж, кричать надо?
Она детски прильнула к его плечу, страх ушел, и лампочка из ветвей уж мирно золотила ее волосы.
— Гимназисточка, — прошептал он, но в голове проснулся бес, захлопал в ладоши, возликовал: «Кто она? И кто ее привез? И почему ей понравился ты, а не режиссер, — вспомни, что говорил герой. Она лжива, поругалась со своим кумиром и пришла к тебе, чтоб отомстить ему. Ничтожество ты, Феликс Васильевич, да еще и дурак», — изгалялся бес.
И Феликс, озлобившись, уязвил:
— Ты всегда придумываешь дни рождения?
Она, будто ослышалась, кончиком языка облизав губы, прошептала:
— Я пойду, я, пожалуй, пойду, а ты отдохни, ты очень устал… очень! Дорогой мой, — но не ушла, а, поеживаясь, надела в рукава пуловер.
Ему бы извиниться и уйти, но он понес вздор. О ее лодке, которая плыла двадцать пять лет, не зная его, Феликса, и пусть себе плывет, и забудет и этот день, и этот берег. Он говорил о том, что его одинокий фонарь будет догорать над тихой заводью. Он умолк, увидел болезненно и рельефно ее ноги в белых туфлях на ступенях. Увидел разлапистые тени виноградной листвы и неожиданно для себя и для нее обнял ее, прильнул щекой, бормоча о герое, о том, что пусть он. Он красивей, он лучше, и пусть она его, героя, простит.
— Пусти, — холодно сказала она и вошла в комнату, закрыв дверь.
Феликс постоял и побрел в кромешной тьме, и не было ни раскаяния, ни злого торжества, лишь зияла пустота в его груди. Он брел над морем, рискуя упасть с обрыва. Он отыскивал огни. Но его именинный пирог отсверкал, и море лежало черным холодным провалом. Лишь на причале он увидел фонарь, волна накатывала неоновый росплеск из ночи.
— Дурень и фантазер, — сказал он и услыхал смех. Смеялась Ада Юрьевна, смеялась тихо, беззлобно, ибо всегда и все прощала ему.
Бормоча и рассуждая сам с собой, он пошел к машине. Разделся и лег, наглухо подняв стекла, но напрасно силился заснуть, скрипели сиденья, и он видел то огненную копну волос, то голову, шею и желтый глаз павлина. Она, конечно, принесет свитер, мы встретимся, вспомнил он и обрадовался, но тут же и прогнал эту мысль. Все кончено, утром уеду. И тогда раздался голос, мягкий, удивительно благозвучный:
— И все-то ты знаешь, а не слишком ли много, умник? Ну, а если ты умник, то скажи: почему на пляже ты видел Веру?
Боже, Ванятка! Феликс сел, но в стеклах темнота и никого. Просто я засыпал, и померещилось, решил он, теперь уж не заснуть. Он подержал руку на груди, гулко стучало сердце, закурил, отхлебнул из бутылки и достал папку, пожелтевшие листы и с великой радостью ушел туда, к Ванятке, в свое военное прошлое.
Тот морозный и солнечный день, как цветной, удивляющий своей предельной ясностью слайд, запечатлелся в моей памяти. Помню до паузы в диалогах человеческую речь. Помню цвет зеленых церковных куполов над толстыми от снега крышами. Помню и сияние крестов в солнечных лучах на фоне голубого, удивительно чистого неба. Помню блеск кабины «мессершмитта», и белый кок в центре винта, и малиновые снопы из него. Я бросал вниз свой маленький У-2, и он, поднимая тучи снежной пыли, проносясь над крышами, то взмывал, и винт сверкал в голубизне, то опущенное в вираже крыло чертило вокруг зеленых куполов, а кресты и колокольни разворачивались на уровне моей кабины. В одном из мгновенно меняющихся кадров воздушного боя из-за леса, будто небритой щетиной покрывавшего землю до горизонта, выскользнули две черточки. «Яки», победа, понял я, «мессершмитам» конец. Один «мессер» полез на высоту, второй удрал на бреющем. Я направил капот с мелькающим винтом на белую прицерковную площадь, ее пересекал танк, разматывая рубчатые следы на снегу, и я не сел с первого захода, а сделал круг, и когда приземлился у церкви, в голубом небе, вытягивая дымную арку, падал «мессершмит», под ней, освещенный закатным солнцем, расцвел розовый купол. «Яки», нос к хвосту, пропестрели в ветлах, скрылись за белыми крышами.
Я снял шлем и после нечеловеческого напряжения воздушного боя был радостно удивлен звуками и очарованно слушал, как скрипит снег под моими унтами, как во второй кабине мелодично звякнул ремнями генерал и крикнул в сторону краснокирпичного здания штаба:
— В машину, поймать!
Солдаты, смотревшие к небо, только того и ждали, они попрыгали в кузов новенького «доджика», и я слушал и не мог наслушаться, как звякают о железный пол приклады и лязгают затворы. Заурчал мотор. Я слышал, как на всю морозную площадь блямкнул люк на танке, и из него выглянуло чумазое лицо и, сверкнув зубами, удивительно музыкально прокричало:
— Эй, летчик, станови магарыч, тебе орден с неба падает! Даешь «мессершмит», — и захохотал раскатисто и непринужденно…
Феликсу почудились шаги у автомашины, и будто что-то легло на капот. Он отложил листы и вгляделся в темноту — никого. Он поудобней улегся на скрипучих сиденьях и ушел в тот морозный день.
Если в начале войны он заставлял себя не думать о смерти и твердо знал, что не выживет, будет убит и обязательно в спину, то в тот солнечный день его внутренняя убежденность сказала: «Нет! Война не отнимет у тебя жизнь. Ты выживешь». Он впервые за всю жизнь почувствовал себя победителем, упивался победой и ликовал, но он не был рожден победителем, и за мгновения торжества, как за нечто, не принадлежащее ему, а присвоенное, чужое, пришлось платить. Ибо, думал Феликс, он не имел права радоваться счастью, выпавшему ему в тот день. За это счастье сразу же было заплачено.
Он поразмышлял и стал читать далее.
Я снял шлем, натер снегом скулы, сведенные в бою, а от головы и шлема шел пар; я был упруг, радостен и то и дело победно поглядывал на парашютиста. Он паучком висел в серебристых стропах, и уже видна была кожаная куртка в оплете подвесных ремней, ноги в унтах были правильно сомкнуты. Надо б с лестницы взглянуть, куда он сядет, подумал я. И… тогда над головой пронесся рев, вихрь и звон винтов. Один из вернувшихся «яков» деловито взмыл, каркнул в небе пулемет. Парашютист обмяк, уронил голову, раскинул ноги. «Як» пристроился к ведущему, и самолеты исчезли.
Все произошло молниеносно, и наступила тишина. Но я знал: парашют мирно опускает теперь уж мертвеца за колокольню. Вороны опять усаживались на иву, теперь их карканье не казалось мне столь музыкальным и день — сияющим. Я видел иного смертей, но привыкнуть к ним не мог. И напрасно внушал себе, что они в наших тоже стреляют, доводы ума были хоть и правильными, но не убеждали. Душа протестовала и жалела, и я больше всего боялся, чтоб никто не узнал, что я так слаб.

























