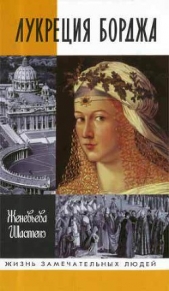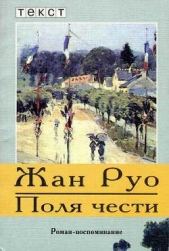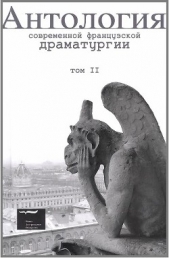Утренняя звезда
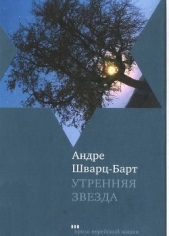
Утренняя звезда читать книгу онлайн
Французский писатель Андре Шварц-Барт (1928–2006), потеряв всех своих родных в нацистских лагерях уничтожения, с пятнадцати лет сражался за освобождение Франции, сначала в партизанских отрядах, а потом в армии генерала де Голля. Уже первый его роман о нелегкой судьбе евреев в Европе от Средних веков до Холокоста («Последний праведник») в 1959 году был удостоен Гонкуровской премии. Изданная посмертно последняя книга Шварц-Барта «Утренняя звезда», которая рассказывает о пареньке из польского поселка, прошедшего Варшавское гетто и Освенцим, подхватывает и завершает тему судьбы народа, понесшего огромные жертвы во время Второй мировой войны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А почему этот еврей играет на флейте в подобном месте? Неужели он думает, что мертвые его слышат?
— А разве они не слышат?
— Ты прав, мертвые не очень мертвы… да и живые не живы, вот ведь какое дело, — задумчиво пробормотал кучер себе под нос.
Потом неожиданно властным тоном он попросил Хаима вылезти из ямы, и тот послушно встал, пытаясь не наступать на лица, протянул кучеру руку, и тот одним рывком вытянул его на землю живых.
Телега и лошади стояли у края кладбища около сторожки, закрывающейся на замок с огромной цепью. Хозяин подтолкнул мальчика к соломенной подстилке и стал разогревать чай. Потом он осмотрел и выслушал ребенка, потрогал его живот, провел пальцем под подбородком, заставил сплюнуть и пришел к заключению, что тифа у него сейчас нет.
Еще он сказал, что ему очень понравилась мелодия, которую тот играл на флейте, и пошутил, что-де не зря про обитателей Подгорца ходили слухи, что некогда они заставляли своих мертвецов танцевать под звуки скрипки. Но Хаим этого уже не слышал: он спал.
Когда Хаим проснулся, ему показалось, что халупа погружена в полную тьму. Но свет все же пробивался в щели между досками, и он разглядел кучера, сидевшего в уголке с огромным молитвенником на коленях. Его губы шевелились, как бы помогая взгляду, но темень стояла такая, что глаз не было видно. Внезапно Хаим заметил дверь, распахнутую в полнеба, и громко вздохнул. Кучер закрыл книгу, нагнулся над ребенком, ощупал ему лоб и удовлетворенно прищелкнул языком:
— Ты вынослив, как наш праотец Даниил: ты спустился в ров, а тифозные львы на тебя не покусились. Не плачь, твои родственники уже спят в земле, и мы с тобой сейчас пойдем и помолимся над их могилой. Вот, поешь и выпей, чай — не чай, да и сахар — не сахар, даже хлеб — лишь видимость хлеба, и все же, несмотря ни на что, от этого в животе станет теплее. Одного я не пойму: почему подгорецкий еврей гуляет по улицам без ермолки?
Снаружи вороны поклевывали свежую земляную насыпь над обернутыми в газеты обнаженными телами, а в другом конце кладбища несколько человек торопливо копали новую траншею, отваливая землю небольшими комками, из которых торчали старые кости и осколки надгробий, скорее всего прошлого века. Со стороны гетто раздался выстрел, и Хаим внезапно услышал скрежет трамваев и рокот машин, шуршащих по мостовой в христианской части города, прямо за стеной. Рассветное небо висело еще совсем низко над землей, такое же плотное и враждебное, как она, и столь же нечистое. Хозяин халупы надел свою кепку с кожаным козырьком, прямо на черную капоту верующего еврея напялил тяжелый фартук из серой дерюги и, посадив ребенка на сиденье рядом с собой, щелкнул кнутом над крупами лошадей, которые тотчас тронулись, так что ему не пришлось даже браться за вожжи. Большинство людей, встречавшихся на пути, боязливо сторонились их повозки, чьи колеса теперь царапали булыжники улицы Крохмальной, однако кое-кто останавливался, рассматривал похоронные дроги, лошадей, кучера, ребенка в одежде, затвердевшей от негашеной извести, колеса, короб с болтающимися занавесями, подвергая все это самому пристальному исследованию, вглядываясь с таким напряженным, тревожным опасением, словно там было зеркало, отражавшее его собственное лицо. А кучер между тем рассказывал Хаиму о том заведении, заботам которого хотел его доверить: о сиротском доме доктора Корчака. Этот приют существовал уже десятки лет, прежде его называли Домом новой жизни, а теперь Сиротским приютом гетто. Доктор Корчак, и здесь обольщаться не надо, слывет абсолютно сумасшедшим. Сорок лет назад он вместо того, чтобы открыть свой кабинет, как это делает каждый порядочный врач, использовал свое влияние и деньги для устройства интерната для брошенных детей. Его приглашали во все точки земного шара, его мнения спрашивали по тысяче поводов сугубой важности, и что же? Господин писал сказки, ха-ха! Но, кроме смеха, главный вопрос вот в чем: найдется ли у доктора место, малюсенькое такое местечко для еврея из Подгорца, который имеет самый умеренный аппетит и вдобавок не храпит во сне? К несчастью, со всеми этими зверьками, что кишат повсюду, сиротский дом полон, как яйцо. Туда, наверно, никак не проскользнуть: соломинку не просунуть, не то что присутствующего здесь молодого человека. Но в одном можно не сомневаться: хотя сам он лишь тень смертного — простой кучер, возничий из мира теней, он знает доктора Корчака целую тыщу лет, и если есть хотя бы один-единственный шанс…
— Тысячу лет? — изумился Хаим.
— А что, ты думаешь, это слишком много? — весело вскричал возчик, останавливая упряжку перед большим порталом с выбитой в камне звездой Давида.
На стук дверного молотка им отворил мальчик; обменявшись с кучером парой фраз, он ушел и вернулся в сопровождении невысокого человека заурядной наружности, сильно исхудавшего — одежда болталась на нем, как на вешалке, круглая шляпа сползала на уши, и даже очки стали слишком большими для его истончившегося лица. Потолковав наскоро с доктором Корчаком, кучер положил свою тяжелую землистого цвета руку на голову ребенка, словно благословляя его на новый путь, и вдруг прыснул:
— Сколько лет хороню народ, но услышать флейту в могиле? Хе-хе, кто бы мог такое вообразить?
Доктор надел белый халат, резиновые перчатки, на лицо — какую-то маску и ввел Хаима в комнату, где его обрили наголо механической машинкой, а затем погрузили в большую лохань, имеющую форму башмака. Всю его одежду сгребли в кучу, чтобы, вероятно, выбросить вместе с волосами, но мальчик яростно воспротивился и настоял, чтобы ему вернули флейту. После того как его вымыли и обтерли, как маленького жеребенка, доктор вдруг спросил тем же насмешливым тоном, как недавно возчик:
— А мы, насколько я понимаю, еще и играем на флейте?
Очки доктора Корчака блестели, будто два диска, наводя страх, словно угрожающие глаза совы, и Хаим смешался.
— Ну-у, играть… Играть — это сильно сказано, — промямлил он.
— Вы поглядите на этого философа! — воскликнул доктор. — Ну, играть, может быть, и не значит играть, но флейта, как ни крути, — это флейта, — заключил он, протягивая инструмент мальчику.
Тут уж Хаим включился в игру и, раздумчиво покачав головой, словно прося простить ему этакую наглость, уточнил:
— Пусть доктор меня извинит, но флейта — это не флейта.
— А что же это?
— Это музыка, — улыбнулся он.
Он поднес костяной кончик инструмента к губам — и его тотчас захлестнула волна печали, разом нахлынуло все, что с ним приключилось: ожидание на краю тротуара, одинокая погоня за повозкой с мертвецами, великодушный возчик, и над всем этим — безграничное отчаяние, до головокружения расширявшее огромные очки смотревшего на него доктора Корчака, так что они объяли все небо, с высот которого уже спускалась ночь… Из флейты полилась череда негромких, но ярких и легких, почти воздушных звуков, и на какое-то мгновение Хаиму даже показалось, что его дыхание худо-бедно уравновешивает расползшееся вокруг зло. Доктор Корчак засмеялся и положил руку на голову ребенка тем же жестом, как ранее возчик.
— А ты прав, — признал он. — Флейта — это не флейта.
Потом, словно пронзенный внезапной мыслью, воспоминанием о чем-то, что ранее ускользало, доктор резко отвернулся и поспешил к двери, от его разлетающихся одежд позади оставался как бы след, словно волна от прошедшего судна. И когда он бросился в глубь коридора, по его неровной походке, по тому, как одно плечо опущено ниже другого, Хаим вмиг распознал в нем силуэт, виденный в ночь после прихода в гетто: да-да, того, кто положил у его ног белую булку, — пророка Илию.
Сиротский дом доктора Корчака не походил ни на что из того, с чем Хаим когда-либо сталкивался в своей жизни, уже казавшейся ему долгим странствием, полным раздумий и событий.
Здание это в прошлом было еврейским ремесленным училищем, два года назад преобразованным в приют: кое-какие станки еще торчали в углах фельдшерского кабинета и в дортуарах, но только столярная мастерская сохранила свое первоначальное обличье. Она находилась на четвертом этаже, в мансарде, помещении узком и темном, служившем доктору Корчаку одновременно кабинетом, спальней, залом медитаций и курительной комнатой, как, улыбаясь, замечал он сам.