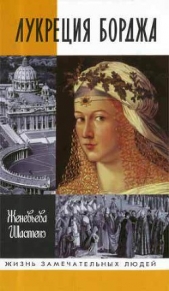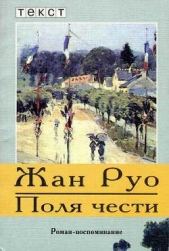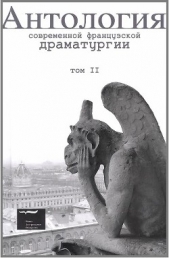Утренняя звезда
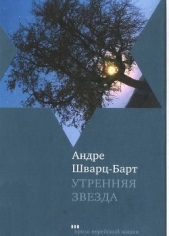
Утренняя звезда читать книгу онлайн
Французский писатель Андре Шварц-Барт (1928–2006), потеряв всех своих родных в нацистских лагерях уничтожения, с пятнадцати лет сражался за освобождение Франции, сначала в партизанских отрядах, а потом в армии генерала де Голля. Уже первый его роман о нелегкой судьбе евреев в Европе от Средних веков до Холокоста («Последний праведник») в 1959 году был удостоен Гонкуровской премии. Изданная посмертно последняя книга Шварц-Барта «Утренняя звезда», которая рассказывает о пареньке из польского поселка, прошедшего Варшавское гетто и Освенцим, подхватывает и завершает тему судьбы народа, понесшего огромные жертвы во время Второй мировой войны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В обмен на кусок этого хлеба величиной с кулак консьерж дома номер 19 на улице Лезно позволил им расположиться в треугольной пристройке под лестницей, где ранее он оставлял то, что требовалось для уборки здания. Объем этого шкафа был не намного больше четырех детских тел, плотно прижавшихся друг к дружке. В нормальные дни они оставляли приоткрытой маленькую треугольную дверцу, но, когда наступал великий холод, ее притягивали бечевкой, тогда к исходу ночи дети начинали задыхаться. Выползали наружу совершенно посиневшие, но этот цвет лица позволял надеяться, что краски жизни еще вернутся, а вот синюшность замерзших тел была бы уже необратима.
Безумие, царившее вокруг, достигло поистине неземных степеней. Небо нависло низко, его неопределенно мутный цвет превращал день в подобие вечных сумерек, отчего разница между сном и бдением почти сходила на нет. Хаим попытался выходить на улицы и там играть на флейте. Но в голове было пусто, пальцы стыли, и горькие, едва живые звуки музыки уже не содержали в себе ничего такого, что привлекло бы внимание прохожих. Тогда он принялся просить милостыню, беря с собою младших братьев, чьи жалобы вроде бы иногда трогали отзывчивую струнку в некоторых еврейских сердцах. У них еще были талоны на питание, один раз в день их кормили в народной столовой Комитета взаимопомощи. С утра до вечера приходилось быть начеку: научиться избегать камней, падающих с неба, и дубинок еврейской полиции, наскоков вопящих поляков, украинцев и латышей, немецких грузовиков, внезапно сворачивавших прямо в толпу, и взбесившихся ног взрослых людей, способных в паническом бегстве раздавить ребенка.
Наступила пора его бар мицвы, и Хаим решил, что она пройдет в точности так, как в Подгорце, а не как здесь в гетто, где состоятельные евреи давали своим детям уроки музыки, оставляя умирать сирот с Крохмальной улицы. Однажды ночью в своем треугольном закуте он обрядился в самые лучшие одежды, надел и праздничные ботинки, специально для него изготовленные отцом: одновременно нежные, словно человеческая кожа, и крепкие, как кость, да к тому же мелодично поскрипывавшие при каждом шаге. Затем он направился в старую деревянную синагогу, торжественно поднялся по ступеням, ведущим на алмемор. С этого возвышения он впервые смог обозреть все собрание присутствующих и произнести с нужной интонацией и подобающим видом те слова, которые перед Богом и людьми делают еврея евреем. Ему все хлопали, даже в том закрытом бархатной завесой отсеке, где стояли женщины. Но в этот момент кто-то, рыдая, спустился по лестнице, и стук ступенек под его ногами звучно отдался в треугольном закуте, жадно ловившем все ночные шумы. Затем над Варшавой опять воцарилась тишина, а в Подгорце возобновились рукоплескания, но они слышались уже не так отчетливо, возникли помехи — скрип треугольной дверцы их чулана, дыхание домов гетто, воспоминания о красной кирпичной стене и бесконечных пространствах, отделяющих Хаима от тел, укрытых землей в могильном рву. Вскоре он заснул. Назавтра рукоплескания возобновились во всей первоначальной свежести. Но у него уже появились сомнения по поводу этой церемонии, он почувствовал, что было бы лучше, если бы его отец присутствовал на ней во плоти. Однако сон — чудо из разряда пророческих, так говорили люди в Подгорце. Стало быть, видение, явленное ему, его бар мицва могла быть чем-то подлинным, взаправду имевшим место? Но если это лишь самый обычный сон, можно ли считать, что церемония состоялась? Если нет, если его бар мицва пред ликом Создателя недействительна, что теперь станется с ним? Ведь тогда получается, что он потерял право быть ребенком, так и не сделавшись взрослым? Не придется ли ему отныне считать себя лишь тенью человека?
Между тем близилась весна 1942 года, или 5702 года от Сотворения мира Всевышним (да святится имя Его), пошли дожди, и по всему гетто расползлась плесень. Остатки хлеба пророка Илии совсем от нее позеленели. Когда консьерж обнаружил это и вдруг понял, что лишился покровительства свыше, он в ярости, размахивая метлой, выгнал братьев. Они переходили из одной ночлежки в другую, иногда спали в коридорах или в развалинах, отыскивая там укромные уголки и утепляя их старыми газетами. Они сделались свитой старика, игравшего на скрипке во дворах еще красивых домов. Его звали Исаак Келнер, он раньше выступал во всех мировых столицах. Люди в красивых домах говорили, что это имя когда-то гремело по-королевски. И окна открывались, оттуда бросали черствые хлебные корки, дети собирали их для старика и всегда получали свою долю. Хотя его звали Исаак Келнер, он однажды вспомнил, что девичья фамилия его бабушки была Шустер, «девица Шустер», повторял он с неожиданной горячностью, правда, она никогда не упоминала о месте своего рождения, но он теперь уверил себя, что она появилась на свет в Подгорце, следовательно, проявив малую толику доброй воли, можно назвать братьев его внуками. Старик передвигался по земле уже с большим трудом. Но каждый раз, когда он взмахивал смычком, его костлявые руки легчали, словно подхваченные волшебным ветром, а пение скрипки долетало до верхних этажей и выше, гораздо выше, к самому небу, величаво проплывая над гетто. По внешним признакам его музыка нисколько не походила на ту, что исполняли в Подгорце. Она не говорила о Боге, она довольствовалась воспеванием красот дольнего мира. Но делала это с таким блеском, что Хаим испытывал некоторое смущение и даже негодование от того, что столько красоты выходило из той самой пучины, куда ухнул еврейский народ. Он начинал с ее отрицания, но, когда невольный восторг охватывал все его существо, вплоть до утробных глубин, он принимал и скрипку, и скрипача, и красоту (слава ее Создателю!) — он принимал все, а хлебные корки, падая, весело подпрыгивали на булыжной мостовой. В погожие дни старик просил довести его до единственного дерева, оставшегося в гетто: под ним какой-то изобретательный ум оборудовал скамейки и сдавал их внаем за три гроша в час. Это была огромная липа, если взглянуть на небо гетто сквозь ее листву, оно меняло цвет, сияло точь-в-точь так же, как когда-то над Подгорцом.
Однажды, когда скрипач так сидел под липой, немцы схватили его и насильно привели в шикарное кафе гетто, где молодым людям под страхом смерти приказали танцевать совершенно обнаженными перед камерой. А на столах были прихотливо разложены всяческие яства. Такого рода фильмы снимали в гетто регулярно, чтобы унять страхи остального мира, обеспокоенного судьбой этого народа. Но, увидев все это, Исаак Келнер бросил скрипку наземь и растоптал ее со словами: «Шестерни мирового механизма разлетелись в прах».
Нисколько не тронутый его волнением, один из офицеров сделал с головой старика то же, что тот сотворил со скрипкой. Хаиму так и не удалось прочитать кадиш над распростертым поперек тротуара телом. Затем, в сопровождении троицы исхудавших братьев, листочков еще зеленых, но уже кое-где траченных желтизной, он побрел к липе, как пилигрим к месту последнего поклонения. Несколько почтенных буржуа иронически показывали на него пальцем. Высоко-высоко в небе играла невидимая скрипка, но сама красота музыки стала нестерпимо оскорбительной, как и умиротворенность старой липы.
Поговаривали, что мир идет к концу. А некоторые утверждали, что составы с работниками уходят с Умшлагплац не для того, чтобы высадить их в каком-нибудь аравийском королевстве: конечная остановка гораздо ближе к Варшаве, и с ними со всеми поступят хуже, нежели при жизни пророка Иезекииля, гораздо хуже, чем в царствие ассирийского царя Ашшурбанипала, или в те годы, когда правил император Адриан. А значит, с горестным облегчением думал Хаим, Мессия на подходе. Сам же он впал в мрачную подавленность. Конечно, ноги, руки и язык делали все для поддержания жизни, по крайней мере, для того, чтобы обеспечить братьям официально отмеряемую ежедневную долю в двадцать граммов хлеба, а также их порцию картошки, овсяной каши и одно яйцо в месяц. Тайно, не признаваясь никому, он терзался вопросом, есть ли Всевышний судия и хоть какая-то справедливость на свете, и все казалось ему тщетным. Один старый нищий рассказал ему как-то совершенно невразумительную побасенку о звездах, что люди созерцают в ночи: будто в этом абсурдном мире без верха и низа, без начала и конца земле отведено место малой песчинки, — байку, которую Хаим воспринял как еще один гуляющий по гетто слух, быть может, наряду со многими подобными, придуманный немцами, однако что-то в его душе со странным удовлетворением отозвалось на это.