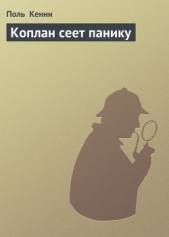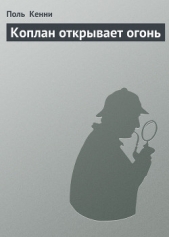Кружевница. Романы

Кружевница. Романы читать книгу онлайн
«"Ирреволюция" - история знаменитых "студенческих бунтов" 1968 г., которая под пером Лене превращается в сюрреалистическое повествование о порвавшейся "дней связующей нити".
"Кружевница" - самый прославленный из романов Лене. Самая знаменитая франкоязычная книга "поколения отчуждения", утратившего способность отличать подлинное от ложного, истину от фальши.
"Нежные кузины" - холодновато-изящная "легенда" о первой юношеской любви, воспринятой даже не как "конец невинности", но - как "конец эпохи".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Похоже, он ждал меня. Такой у него вид. Вид человека втайне довольного, плохо скрытая улыбка жандарма, который составляет протокол.
На сей раз, говорит он мне, учащиеся зашли слишком далеко. Слишком далеко, то есть именно туда, где нас поджидали. Вот мы и попались!
Директор протягивает мне преступную статью. Я ее не читал. Я соблюдал правила игры. Я не требовал, чтобы мне показали материалы до перепечатки. Ученики должны были сами установить границы собственной свободы. Я их предупредил. Они должны были понять, поостеречься.
Но и мне самому следовало поостеречься. Я ведь ждал того, что случилось. Более того — я на это немного рассчитывал. Мои ученики получат по рукам при первом удобном случае: это лучший способ показать им, что они получают «поднадзорное образование», что все мы получаем поднадзорное образование.
Но глядя на недобрую улыбку директора, человека, как я теперь знаю, достаточно ловкого и осторожного, чтобы не торжествовать раньше времени, я догадываюсь, что мои ученики не просто «слишком далеко зашли», что тут дело похуже.
И действительно, хуже некуда. Статья, о которой идет речь, на редкость неистова. В ней только и разговору, что о предателях, скотах, о великих мира сего, которые пьют народную кровь. Но всего хуже, всего непоправимей, что тираны, перечисленные в статье поименно, — это директор, инспектор и я сам; я, оказывается, «бутафорский» революционер, я «окопался». Это ерунда; я готов с этим согласиться. Но директор, к несчастью, «скот». Ищу под статьей подпись маленького негодяя, подорвавшего мою затею, скомпрометировавшего меня: какой-то Дювийяр. Такого среди моих учеников нет, это уже лучше; но откуда он взялся?
Видя мое недоумение, директор хохочет и говорит:
— Это сын фабриканта из Гиза: учится в Париже на архитектора. Благовоспитанный молодой человек, вы не находите? — Потом спрашивает меня: — Вам известно, через кого был передан этот шедевр?
— Представления не имею.
— Как бы там ни было, через кого-нибудь из ваших учеников.
Верно, ничего не могу возразить.
— Ну так вот, мы проведем расследование: найдем сообщника этого парижского дурня; вы же со своей стороны доведете до его сведения, что он исключен из техникума, это ведь ваше дело, не так ли? — заключает разговор директор.
Ну вот! Я дал себя обвести вокруг пальца. Моих учеников обвели вокруг пальца. Их журнал, наш журнал, в котором они наконец могли выразить себя, сказать о себе, освободиться от вековой немоты, этот журнал у нас, можно сказать, похитили; сам директор не мог мечтать о такой удаче! Статью написал не кто-нибудь из наших. Нет, это, как и всегда, человек с другого берега. Ничтожный балбес, которому ничто не угрожает в его парижской «студии». Сын фабриканта. Папенькин сынок.
И я, в сущности, человек с того же берега, что и он, я его объективный пособник. Да, пособник; именно я, а вовсе не тот, кого выставят из техникума, кто так и не получит своего диплома техника и, возможно, до конца жизни будет зарабатывать на пятьсот-шестьсот франков меньше бывших однокашников потому только, что мне вздумалось осуществить одну из своих прихотей. Сволочь я. Нечего было создавать журнал. Я обязан был предвидеть все возможные последствия, даже и эту: если я о ней не подумал, если не предусмотрел, что в Париже или еще где-нибудь может существовать гнусное хозяйское отродье, которому взбредет на ум разыгрывать из себя революционера за наш счет, значит, я не пожелал об этом думать. Я поставил на карту чужую жизнь. Это меня следует выгнать из техникума. Завтра я узнаю, кто должен уйти вместо меня; и у меня даже не достанет мужества попросить у него прощения.
Виновный обнаружен. Это толстый щекастый мальчик, который вдруг расплакался, когда я сказал ему перед товарищами, что он вел себя недостойно по отношению ко всем нам; что из-за него сорвалось начинание, на которое мы, в частности я, возлагали большие надежды, из-за него у нас не будет журнала. Я сказал ему, что у него дурные знакомства, что друзей надо заводить в своей среде; что теперь он научится знать свое место; что он позволил провести себя, как простофиля. И поделом ему! Наконец я сказал то, что велел мне сказать директор: он исключается из техникума. И даже добавил, чтобы не создалось впечатление, будто я действую по чужой указке, что полностью одобряю эту меру, пусть она и покажется некоторым чересчур суровой.
И тут мальчик попросил у меня прощения. Остальные молчали и внимательно глядели на меня.
В среду я решил уехать домой, в Париж. Горничная разбудила меня, как всегда, в семь, принесла мой обезкофеиненный кофе, печенье и апельсиновый конфитюр. В который раз я сказал ей, что не люблю апельсиновый конфитюр, пусть даст абрикосовый. Но она могла предложить мне только мед. Я воспользовался этим, чтобы заявить, что уезжаю; она заметила, что сегодня не мой день, я ответил, что могу уехать в любой день, когда пожелаю.
Я спустился вниз, и они дали мне счет за первые две недели месяца плюс ночь со вторника на среду. Я сделал вид, что проверяю его; выписал чек, стараясь писать как можно неразборчивей, так как не был уверен, что у меня на счете есть деньги: я всегда так поступаю в подобных случаях, то есть довольно часто. Не спорю, триста франков, выписанные неразборчиво, ни на су не меньше трехсот франков, даже если мое «ста» похоже на «дцать» и последний ноль загримирован под запятую, точку или черточку. Иной раз я не подписываю чека, а, когда мне указывают на это, ставлю просто закорючку. Как правило, это дает мне двухнедельную отсрочку, пока банк не напишет мне, чтобы я удостоверил свою фальшивку, и еще неделю, в течение которой я позволяю себе оттягивать ответ.
Я сел, как обычно, в свой «фиат-500», но, вместо того чтобы отправиться в техникум, поехал на вокзал. Машину я бросил у входа для пассажиров, на этот раз окончательно. Дверцу оставил приоткрытой, положил ключ, регистрационную карточку оставил на сиденье. Что-то меня кольнуло при этом. Не слишком.
Я вошел в здание вокзала и увидел на табло, что парижский поезд отходит через минуту. Тем лучше! Не останется времени на раздумья, сомнения, сожаления. Я помчался к подземному переходу, показав на контроле удостоверение, которое дает право на скидку, железнодорожник сказал, чтобы я поторапливался; билет куплю в поезде.
Я устроился у окна. Напротив сидел какой-то субъект, углубившийся в свои бумаги, заполненные цифрами, время от времени он отмечал какую-нибудь колонку толстым карандашом, предварительно пососав грифель. В другом углу купе спала, запрокинув голову, улыбаясь счастливой детской улыбкой и похрапывая, молодая женщина, довольно хорошенькая.
Я смотрел, как уплывает за окном сотанвильский вокзал, потом стал ждать прихода контролера, чтобы заплатить за билет. Отсутствие билета меня стесняло; оно делало мой отъезд как бы вдвойне противозаконным. Глупо; нужно только набраться терпения и потом заплатить, но контролер все не приходил.
К тому же этот субъект все отчеркивал и отчеркивал колонки цифр с усердием школьника, а я бездельничал: третья противозаконность. Я попытался уснуть, но не смог. Субъект время от времени выныривал из своих цифр, из толщи жилета, пиджака, пальто, шарфа, в которые были погружены его расчеты, и окидывал, проверял меня взором труженика. Тогда я вытащил из портфеля две или три письменные работы и заставил себя их выправить. Проверив очередную, я тщательно складывал ее вчетверо, точно собирался вложить в конверт, и вставал, чтобы выбросить через щель приоткрытого окна, игравшую роль прорези почтового ящика. Мой маневр привлек внимание субъекта с карандашом, который так и вперился в меня и не мог оторвать глаз, наблюдая с ошарашенным и мучительно встревоженным видом, как я пускаю на ветер плоды своих трудов. Потом, поскольку письменные работы кончились и я, вероятно, слишком уж пристально уставился на его бумаги, он вдруг засуетился и принялся остервенело запихивать все свои досье вперемешку в портфель, потом прижал его к животу и больше не выпускал из рук.