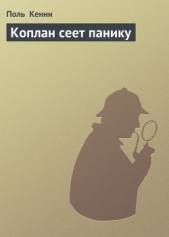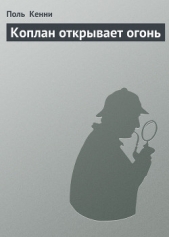Кружевница. Романы

Кружевница. Романы читать книгу онлайн
«"Ирреволюция" - история знаменитых "студенческих бунтов" 1968 г., которая под пером Лене превращается в сюрреалистическое повествование о порвавшейся "дней связующей нити".
"Кружевница" - самый прославленный из романов Лене. Самая знаменитая франкоязычная книга "поколения отчуждения", утратившего способность отличать подлинное от ложного, истину от фальши.
"Нежные кузины" - холодновато-изящная "легенда" о первой юношеской любви, воспринятой даже не как "конец невинности", но - как "конец эпохи".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но следом за мной выходит не девушка, а этот субъект. Он догоняет меня в дверях и говорит: «Простите, я не сразу вас узнал». Болван! И это еще не все: ему необходимо поговорить со мной о сыне, моем ученике. Нет уж, увольте. У меня сегодня нет времени. Ну, не беда! Он приглашает меня зайти к ним на чашечку кофе, когда мне будет угодно. Мне, видите ли, очень трудно выкроить время. Неважно, он готов это сделать в любое удобное для меня время; я влип! В таком случае, чем скорее, тем лучше! Покончим с этим немедленно! Я иду с вами. Он приводит меня к себе; нам открывает толстуха. Она называет меня «мсье профессор». Ладно, пусть будет «мсье профессор», добрые люди! Нечего было заглядываться на ту девушку в кафе: это не к лицу «мсье профессору». Идут за сыном; он появляется, потирая руки, нос, губы, шею. Что вы о нем скажете, «мсье профессор»? Только хорошее, разумеется, только хорошее! Теперь кофе. Пожалуйста, не нужно кофе, мои нервы его не выносят. Рюмочку коньяку? Спасибо, самую малость.
Усаживаюсь поглубже в кресло. Это, конечно, не ночь в Камбре, о которой я мечтал, но в конце концов мне не так уж плохо. Тепло; в камине с газовым отоплением горит огонь: в мою честь зажгли даже красную мигающую лампочку в пластмассовых поленьях, установленных перед радиатором. Мальчик непрерывно переводит взгляд со своих часов на большой телевизор, стоящий на комоде. Бедняга — не будет сегодня телевизора! Папаша говорит мне о сыне. Он так хотел, чтобы я пришел, потому что ему необходимо поговорить о сыне. Толстуха разглаживает свою юбку и все больше расплывается на диванчике, точно устрица, раскрывающая створки. Парень ерзает от нетерпения. Он уже не смотрит на часы; должно быть, передача упущена. Он смотрит на пластмассовое полено, оно все еще мигает, и от него идет легкий запах гари. «Папа, полено сейчас загорится». Вот черт! Если уж поленья начнут гореть… Полено гасят. Папаша трет глаза в поисках мыслей, вернее, воспоминаний. Он принадлежит к тем, у кого вместо мыслей воспоминания. Опасная разновидность! Даже опаснее людей, у которых есть мысли, потому что воспоминания неопровержимы, их приходится выслушивать до конца! Он воевал. Потом четыре года — в плену. Там-то и познакомился с М. М., тоже преподавателем философии, как я. Я должен его знать. Нет, что вы! Откуда же мне знать всех преподавателей философии. В самом деле? Он обескуражен; толстуха тоже: мне полагалось бы знать М. М., это нехорошо, что я его не знаю. Парень бросает на отца взгляд, полный сомнений и тоски: кто-то из троих — отец, философ или я — обманщик, но кто?
Папаша не сдается: но книги-то М. М. вы по крайней мере читали? А если он «пишет книги», я, должно быть, их читал: этого требует мой престиж, поставленный сейчас под сомнение. Так что книги М. М. я читал.
Всеобщее блаженство. Папаша взволнован! Мир так тесен! Еще тесней, чем кажется. Он показывает мне книги М. М. Спасибо, не нужно! Я ведь их читал! Приходится тем не менее взглянуть на них: они с авторской надписью. Ладно; с этим покончено. Я свободен, могу уйти. Ну, до свидания, «мсье профессор».
Господи, до чего же холодно! На улицах ни души, десять часов. Ночь ложится мне на плечи влажной пелериной. Я снова прохожу перед «Глобусом» — на всякий случай. Но девушки там уже нет. С какой стати она там будет торчать до этих пор? И вообще мне сейчас слишком холодно.
На прошлой неделе сиделка приехала в Сотанвиль, чтобы провести здесь вместе со мной воскресенье. Я не без труда уговорил ее посетить мое чистилище, но сейчас, увидев ее, не так уж уверен, что сам этого хотел. Я люблю эту девушку только на известном расстоянии, но как дать ей это понять? Я говорю ей: приезжай; ей бы ответить: хорошо, приеду, но не приехать; тогда я мог бы ее ждать, но мне не пришлось бы выносить ее присутствие. Существуют тонкости, которые от нее ускользают. Она воображает, что любовь — это некое наваждение, всепоглощающая страсть — в стиле «наконец-то мы одни». Как бы не так! Любовь — это только воображение; поэтому сначала с человеком еще можно видеться, — пока не слишком хорошо его знаешь, больше придумываешь. А потом видеться не следует; видеться просто невыносимо — любимый человек разрушает собственный образ; в конце концов начинаешь его ненавидеть. Любовь — это отсутствие; не настоящее отсутствие, не подлинная разлука; но некое умение уйти в тень, своего рода сдержанность и способность принести себя в жертву своему образу ради другого; ради того, чтобы этого другого не слишком раздражало, что ты такой, как ты есть.
С сиделкой о подобного рода деликатности и речи быть не может, разве что на расстоянии ста пятидесяти километров, амортизирующих ее порывы и несдержанность. Она не поняла, что Сотанвиль наша последняя отсрочка, наш последний шанс, и вот явилась, идиотка!
Я злюсь на нее еще и потому, что она такая, каким был я сам несколько месяцев назад: она привязана невидимыми, но крепкими нитями к Парижу, к продуманному беспорядку своей квартиры, своих книг, своих теорий, своего времяпрепровождения, своих сумбурных и волосатых друзей, с которыми она уже не заставляет меня так часто видеться, но которых потчует в те вечера, когда меня нет, колбасой и редькой. Вот я и злюсь на нее за то, что она такая, каким я больше не хочу быть; за то, что она для меня, во мне, воплощение моих прежних привычек, ничем не оправданных пристрастий и отвращений; я злюсь на нее за кино, за бистро, куда мы ходили вместе, за фильмы, которые смотрели, за пластинки, которые слушали.
Она приехала ко мне, окинула взглядом номер и сказала, снимая пальто:
— В сущности, ты здесь неплохо устроился.
Она пожелала тотчас заняться любовью, поскольку ей известно, что после ужина мне грош цена. Я тоже был не прочь заняться с ней любовью. Во всяком случае, я этого хотел, пока она не отпустила это свое «ты здесь неплохо устроился». Но теперь она была мне противна. Мне было противно ее тело. Она явилась, чтобы одарить меня милостыней своих ласк, продуманных, как и все в ней; и, поскольку не следует внушать своим беднякам дурных мыслей, она сказала, что, в сущности, я мог бы и обойтись без этой милостыни; что не так уж мне плохо, что на моих стенах, на моем окне, на моем столе, на моем лице она не прочла моего одиночества. Это она-то, которая и трех дней не прожила бы тут. Она, которая только и умела, что презирать и эти стены, и этот стол, и голую женщину в рамке, и, возможно даже, мою физиономию.
Так что я сам подал ей милостыню своих ласк, своей плоти. И потом ничего не сказал. Не сказал, главное, что я думаю о ее наигранно хорошем настроении; в тот вечер я не сказал ей, что думаю о мерах предосторожности, принятых ею, чтобы не проговориться, не ляпнуть, чего не следует, ни о гостинице, ни о ресторане, ничего такого, что могло бы меня ранить. Я позволил ей остаться при убеждении, что из нас двоих тяжелобольной — я, я тот, кого следует щадить. Я и впрямь был болен; но не была ли еще серьезней больна она сама, с ее приглушенным хихиканьем, с ее тонкими шуточками в адрес неповоротливого метрдотеля, с ее манерой многозначительно наступать мне на ногу под столом, строить глазки и жеманничать, повергавшей меня в ужас, с ее игрой в «свадебное путешествие», которое забросило нас в этот гадкий провинциальный отель, но уже завтра мы будем в Венеции, и поэтому ничто не мешает нам теперь забавляться, разглядывая всех этих несчастных, всех этих бедолаг, не умеющих жить, то есть всех других, всех остальных.
Следовало бы ей изменить, бросить ее. Но это мне не удастся: я знаю, что, если брошу ее, стану скучать по ней; злиться на себя за то, что ее бросил: брось я ее, верх взял бы ее образ, а этот образ я люблю. Не так-то все просто; лучше уж пусть она меня бросит; чтобы мне не в чем было потом себя упрекать. Пока что я ей изменяю. Вернее, нет, это не называется изменять. На выезде из города есть что-то вроде кабаре. Я иногда заглядываю туда около полуночи; встаю с постели. Если вино, усталость и скука не сморят меня тотчас после ужина, мне не хватает мужества проделать в одиночестве переход в завтрашний день. И вот я встаю с постели и направляюсь к этому кабаре, которое известно всему Сотанвилю, но о котором не принято говорить вслух, потому что там есть две-три девушки, приглашающие вас выпить рюмочку по дешевке. Людей из приличного общества там не встретишь, только таких, как я, коммивояжеров. Как-то вечером, очевидно из чувства жалости, метрдотель дал мне этот адрес. И теперь я довольно охотно хожу туда; в такие ночи я ложусь спать позднее обычного, переход укорачивается; иногда и вовсе не ложусь. А на следующий день, к пятому, шестому уроку говорю себе, что никогда больше не пойду в это кабаре: язык у меня заплетается, и мои подкашивающиеся ноги корят меня самым искренним, но быстро преходящим образом.