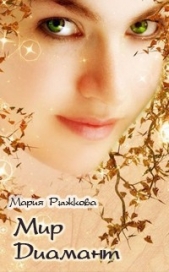Площадь Диамант

Площадь Диамант читать книгу онлайн
Мерсе Родореда — женщина, чье имя прочно вошло в мировую литературу. По словам Габриэля Гарсиа Маркеса она «писала на блистательном каталанском языке суровые и прекрасные романы». Одним из них и является «Площадь Диамант» — роман-потрясение, завораживающий своей искренностью, «созданный самой Любовью».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Что вам угодно?
Сказал, будто кнутом ожег. Я услышала: чьи-то шаги по песку: это сеньора подошла, поинтересовалась — кто? Сеньор увидел ее и сразу в дом, а мы остались вдвоем. Она повела меня садом и в мощеном патио остановилась. Я смотрю — в умывальнике их мальчонка. Сидит там и со стенок соскабливает засохшую мыльную пену. Меня не узнал… Я сказала сеньоре, что ищу работу и вот думала, вдруг у них… Сеньор — он наверно слышал наш разговор — свесил голову с галереи и как отрубил: нет у нас никакой работы… У нас почти все отобрали, но скоро вернут, мы добьемся. А кто был за революцию, кому нужна республика, пусть вообще забудут сюда дорогу. Мы не собираемся держать в доме кого ни попадя, всякую голь, которая будет марать наше достойное имя! Да пусть лучше весь дом зарастет грязью, чем иметь дело со всяким сбродом!
Сеньора ему — успокойтесь, успокойтесь, а потом поглядела на меня, вздохнула и говорит: такая война, налеты, бомбы, вот у него нервы и разошлись, чуть что — сразу в крик… Но сейчас, говорит, мы действительно никого не можем нанять, сами сидим без денег, а иначе, кто бы позволил бедному мальчику отскребать грязь с раковины. Вон, посмотрите…
А когда я сказала, что у меня Кимета убили на фронте, сеньор сказал, что очень сожалеет, но лично он его на фронт не посылал. И еще сказал, что я, на самом деле, тоже из этих — красная. Разве, говорит, вам неясно, что такие люди, как вы, могут запятнать нашу репутацию, так что у нас с вами не должно быть ничего общего… Сеньора, его теща, проводила меня, а у фонтанчика остановилась и говорит: после той истории с милисьяно, он так и не пришел в себя и, уж поверьте, нам тоже нервы мотает. Я помогла сеньоре закрыть калитку. Приподняла ее с улицы коленкой и кое-как прихлопнула; сеньора сказала, что доски отсырели от дождей, и калитка осела. У лавки, где всегда продавали хорошую вику, я чуть передохнула и пошла дальше. В лавке было совсем пусто, а мешков на улице — никаких. По дороге, конечно, остановилась возле хозяйственного магазина, чтобы снова поглядеть на кукол и на белого плюшевого медвежонка в черных бархатных штанишках, с бархатными ушками, черными изнутри. Там еще была обезьянка — тоже из черного бархата. С большим бантом на шее. И кончик носа из черного бархата. Она прямо на меня смотрела. Сидит себе в ногах у большой нарядной куклы, глаза — оранжевые, зрачки блестят, темные, как вода в колодце, руки-ноги разведены в стороны и подошвы беленькие. Сидит и глазеет на прохожих, как человек. Я не знаю, сколько простояла, а потом вдруг чувствую: по всему телу какая-то слабость разливается. Ну и пошла прочь. А как стала переходить Главную улицу, ступила одной ногой на мостовую и вижу, как среди бела дня вспыхивают синие огни, а им в ту пору уже неоткуда взяться. И грохнулась наземь, как подрубили. Потом у себя на лестнице остановилась, где весы вырезаны, чтобы дух перевести, и не могу, не могу вспомнить, что со мной случилось. Будто с той минуты, как поставила ногу на мостовую, и до того, как увидела эти весы, не было во мне жизни.
Сеньора Энрикета нашла для меня работу в одном доме — мыть лестницы по субботам. А еще два раза в неделю я ходила убираться в кино, где фильмы показывали про всякие новости в мире. Денег получала, что кот наплакал. И вот как-то ночью — сна нет, по обе стороны дети. Рита с одного боку, Антони с другого, ребрышки торчат, и на теле каждая жилочка просвечивает. И у меня в голове молнией — лучше убить! Только как? Ножом — нет. Завязать им глаза и сбросить с балкона — нет! Переломают руки-ноги, и все. Дети, они живучее меня, живучее оголодавшей кошки. Нет!
Голова по ночам раскалывалась, а ноги как лед, не согреть. И тут… появились руки. Потолок сделался мягкий, будто в облаках. А руки, они, как тряпичные, без костей. И чем ближе ко мне, тем прозрачнее, как мои в детстве, когда я их к солнцу подставляла. Из потолка вылезали обе вместе, а потом отделялись одна от другой. И в кровати вроде не дети мои, а два яйца с желтками внутри. Эти руки хватали моих детей в скорлупе, поднимали кверху и начинали трясти. Сначала медленно, потом изо всех сил. Будто в этих руках скопилась вся злоба голубей, вся злоба войны оттого, что такой у нее конец страшный. Оттого, что все провалилось. Я хочу закричать, а голос мой исчез. Хочу закричать, чтоб пришла полиция, кто-нибудь. Пусть придут, уберут эти руки. А когда поняла, что вот-вот вырвется из меня этот крик, я его спрятала, не пустила наружу. Разве мне можно, когда Кимет на войне погиб? Меня же в тюрьму заберут. И решила — все, хватит. Где лежит воронка? Два дня совсем ничего не ели. Золотые монетки мосена Жоана давно продала. Когда продавала, у меня будто все зубы без заморозки дергали. Нет — все, хватит! Куда подевалась эта воронка? Куда ее сунула? Продавать точно не продавала, а нет нигде. Ну, обыскалась, все облазила. Где, где? И нашла ее на кухонном шкафу. Встала на стол, гляжу — там, горлышком вверх, вся в пыли. Я ее схватила, обтерла пыль и почему-то спрятала в шкаф. Теперь куплю карболку, и кончено! Как заснут, всуну одному, а потом другому эту воронку в рот и волью и после — сама выпью. А люди — что? Мы ж никому зла не сделали. И горевать никто не станет…
XXXV
Только на что купить эту карболку? Наш лавочник в мою сторону не глядел, не со зла, а боялся, наверно, к нам же столько солдат с фронта приезжало… И вдруг мне стукнуло в голову: а тот лавочник, у которого вика для голубей? Возьму бутылку, попрошу карболку, а потом открою кошелек и скажу — вот деньги забыла, мол, завтра. И надо же, вышла на улицу без кошелька и без бутылки. Не было во мне твердости! Не было! Выйти — вышла, а зачем, сама не знаю. Так, чтоб уйти. Трамваи ходили, а в окнах вместо стекол сетки от мух. Люди одеты кто во что. И во всем, что ни возьми, какая-то вялость, точно после тяжелой болезни. Я, значит, иду куда глаза глядят, смотрю на людей и думаю: никто меня не видит, не догадывается, что я решилась своих собственных детей погубить карболкой. И не заметила, как увязалась за какой-то толстухой в черной мантилье. Она несла две свечи, завернутые в бумагу до половины. Было пасмурно и тихо. Как солнце выглянет, мантилья ее поблескивает и пальто на спине лоснится. Пальто серое, такого же цвета, как ряса мосена Жоана — мушиного крыла. По дороге ей встретился знакомый, они остановились, а я сделала вид, будто витрину разглядываю, и в витрине увидела ее лицо — щеки дряблые, отвисшие, как у старой собаки. Женщина кивнула на свечи и заплакала. Они простились, и я снова пошла за ней, вроде не одна иду, пока вижу ее и мантилью, которую ветром с двух концов задувает… Солнце спряталось, на улице разом потемнело, и начал накрапывать дождик. До дождя один тротуар был сухой, а на другой стороне — влажный. А тут сразу оба стали одинаковые — темные. Женщина раскрыла зонтик, он от дождя заблестел, и с его краев покатились капли.
Сзади по ребру спицы капли падали ей на спину в одно и то же место, будто это одна и та же капля. Волосы у меня совсем намокли, а женщина все дальше и дальше, что тебе жук ползет. И я за ней следом. Так и шли, пока к церкви не вышли. Она закрыла свой зонтик, он у нее был мужской, повесила его на руку, и в эту минуту я увидела молодого человека без ноги, который двинулся прямо ко мне. Как поживаете, спрашивает. У меня в голове вертится — знаю, знаю его, а кто — хоть убей, не вспомню. Он сначала спросил про мужа, а потом начал хвастаться, что у него собственная мастерская и все такое. Я, говорит, воевал с теми, кто против республики, и теперь мне всякие льготы и поблажки. Пока говорил, я все вспоминала — кто? Так и не вспомнила. На прощанье протянул мне руку. Очень, говорит, сожалею, что ваш муж погиб. Не успел отойти шагов на десять, мне в голову — да ведь это Андреу, в учениках был у моего Кимета!
Сеньора с мужским зонтиком остановилась у дверей и стала рыться в сумочке, чтобы милостыню подать женщине с ребенком, почти голеньким. Никак ей не удавалось сумочку открыть: в руках зонтик и свечи. Одна спица, как на грех, зацепилась за карман, да еще ветер мантилью на лицо задувает. Дала она, наконец, монетки женщине и стала протискиваться в церковь через боковую дверь. А я, ну скажи, за ней. Народу в церкви битком, священник по алтарю расхаживает и за ним следом прислужники в белых одеждах с расшитой каймой в ладонь. Риза на священнике шелковая, белая, по шелку ветви тканные, а на подоле — золотое шитье. И на ризе большой крест из прозрачных камней, а там, где перекладинки сходятся — красные лучики, вроде бы свет так играет, но больше на кровь похоже. Я со свадьбы не была в церкви и почему-то стала пробираться к главному алтарю. Из окон, узких, высоких, свет падает наискось цветными полосами, а где стекла выбиты — серое небо. Главный алтарь весь в белых лилиях, и между ними пальмовая ветвь из золота. И кажется, что мольба каждого человека вверх улетает, колонны уносят ее к шпилям, где все мольбы, все заклинанья вместе собираются и взмывают к небесам. Женщина с зонтиком свечи зажигает, ставит, а руки у нее трясутся. Она перекрестилась и застыла, а тут все на колени опустились, все кроме нее и меня. Она — понятно, куда ей на колени, такой толстенной, и мне даже ни к чему, что все на коленях, а я — нет. Потом священник вышел с кадилом и когда дым от ладана растаял, я увидела эти шарики. Целую гору шариков на алтаре, рядом с лилиями святого Антония. Гора эта растет, вспухает, шарики лепятся друг к другу, громоздятся, все выше, выше… Священник наверно тоже это увидел, потому что развел вдруг руками над головой, точно выдохнул: Пресвятая Дева Мария! Я оглянулась — все на коленях, чуть не до самых дверей, значит, ничего не видят. А шарики вот-вот обвалятся на прислужников, которые возле алтаря стоят. Сперва эти шарики были как восковые, как спелые виноградины, а потом начали розоветь, розоветь и сделались алыми, точно кровь. Я зажмурилась, потому что глазам больно. Не пойму — мерещится мне или нет. Открыла глаза, и снова передо мной шарики, горят, как огненные. Вся эта гора кровавым светом переливается. Я гляжу, а шарики стали икринками, будто лежат в рыбьем брюхе, в мешочке, как дети в утробе материнской. Выходит, все икринки нарождаются прямо в церкви, точно в брюхе огромной рыбины. Еще бы час-другой, они бы всю церковь заполонили, накрыли бы и людей, и скамьи, и алтарь. Я все это вижу, и вдруг откуда-то издалека полетели голоса, будто вырвались из глубокого колодца, где вся боль скопилась. Неразборчивые, придушенные, точно у тех, кто кричит, горло сдавленное, а губы ничего выговорить не могут. И все в церкви разом как омертвело: священник в парчовой рясе с кровавым крестом стоит — не шелохнется, люди застыли и лица в цветных пятнах от света, который падал из высоких окошек. А шарики, те живые, расползаются, пухнут, все из алой крови, и кругом запах крови. Значит, кругом смерть, что еще! И никто не видит того, что я вижу, потому что все люди головы склонили. А потом над глухими голосами, которые издалека доносились, грянул хор ангелов, только ангелы были во гневе на людей, раз они не видят, что в церкви собрались души солдат, убитых на войне, раз не смотрят на то зло, что вот-вот и затопит весь алтарь, раз не понимают, что сам Господь Бог показывает — вот смотрите, какое зло вы сотворили, смотрите и молитесь, чтобы сгинуло это зло. И я глянула на женщину с зонтиком, которая не встала на колени, потому что толстая очень. И глаза у нее так и прыгают по лицу. Мы уставились друг на друга — она на меня, я на нее, обе, как не в себе, она-то видела души убитых солдат, ясное дело — должна была видеть, про это ее глаза говорили и про то, что у нее на войне кто-то близкий погиб, пулей насмерть убило. Я напугалась этих глаз, кинулась к дверям, людей не вижу, которые на коленях стоят. А на улице по-прежнему дождик мелкий моросит. И все по-прежнему.