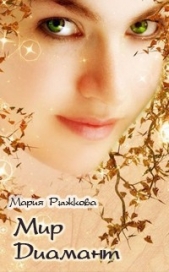Площадь Диамант

Площадь Диамант читать книгу онлайн
Мерсе Родореда — женщина, чье имя прочно вошло в мировую литературу. По словам Габриэля Гарсиа Маркеса она «писала на блистательном каталанском языке суровые и прекрасные романы». Одним из них и является «Площадь Диамант» — роман-потрясение, завораживающий своей искренностью, «созданный самой Любовью».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
XXXIII
Как-то при мне сказали про одного человека — этот, что пробка. Я тогда не поняла, что, собственно, хотели сказать. Пробка, она и есть пробка, затычка одним словом. Бывает, никак не закроешь бутылку старой пробкой, тогда я ее обрезаю, точно карандаш точу. Режешь-режешь, она скрипит, не поддается. Очень с ней трудно, потому что она ни твердая, ни мягкая. Потом-то я поняла, почему так говорят, сама стала вроде пробки, ни чем не возьмешь, все — едино. Нет, разве я была такой прежде! Но сердце, оно как закаменело. Жизнь обломала, куда денешься… Надо было вынести, выдержать, а если нет, если бы сердце не закаменело, и я была бы прежней, когда меня чуть ущипни и уже синяк, мне бы ни за что не пройти по такому длинному и крутому мосту. Часы я спрятала: пусть дождутся, когда Антони вырастет. И гнала от себя мысли, что Кимета убили. Старалась думать, что все как раньше, что он на фронте, а вот кончится война — вернется, снова будет жаловаться на ногу и на легкие, что они все в дырках. А Синто придет и посмотрит на нас — глаза у него как бы сами по себе, отдельно от лица, затихшие, стоячие. И рот набок. Ночью проснусь, и мне окажется, что я вроде чей-то квартиры, из которой невесть куда перетаскивают мебель: все сдвинуто со своих мест. Шкафы будто уже в прихожей, стулья перевернуты, посуда прямо на полу, возле ящика с соломой, а кровать и кушетка на дыбы поставлены к стенке. Ну, полный разор! Вот это самое и чувствовала… И носила траур по Кимету, сделала платье, как смогла, соблюдала все, как полагается. А по отцу не носила и все перед собой оправдывалась, что, мол, раз такое творится, не до траура, не до чего вообще.
Выйду из дому и бреду по улицам, днем они были жалкие, грязные, вечером — темные, синие. Я вся в черном, а лицо белым мучнистым пятном, оно у меня стало с кулачок… Грисельда пришла, чтобы выразить соболезнование, так и сказала. Туфли у нее под змеиную кожу, и сумочка — такая же, а платье белое с красными цветочками. Сказала, что Матеу ей пишет и что они остались друзьями из-за девочки, но у каждого теперь — своя жизнь. Я, говорит, поверить не могу, что Кимет и Синто, такие молодые, здоровые, погибли. Грисельда стала еще красивее и наряднее. Кожа белая-белая, а глаза еще прозрачнее, точно в них зеленая вода. И еще больше в ней спокойствия, еще больше похожа на цветы, которые к ночи закрываются, засыпают. Я сказала, что Антони в интернате, а она посмотрела на меня глазами зелеными, как мята, и говорит: жаль мальчика, пугать не хочу, но в этих интернатах детям очень плохо.
Что да, то да! Грисельда знала, что говорила: в интернате было так, что хуже нельзя. Когда пришел срок забирать мальчика, за ним поехала Джульета. Господи! Это был не мой сын. Ну, подменили ребенка! Весь распухший, животик вздутый, личико отекшее, а ножки — две палочки… Черный от солнца, бритый наголо, голова в струпьях, и на шее железки с орех. В мою сторону даже не глянул, а дома прямо из дверей к своим игрушкам, водит по ним пальчиком осторожно, тихонечко, как я тогда по лапке голубя в крапинку. И Рита ему сразу про игрушки, вот, смотри, ни одной не сломала! Оба игрушками занялись, а мы с Джульетой сидим, уставились друг на друга и молчим. Вдруг Рита — нашего папочку на войне убили, и всех на войне убьют, война, она чтобы людей убивать. Ты, спрашивает, там слышал, как сирены воют?..
Джульета перед уходом обещала достать молока и консервов. А в тот вечер у нас на ужин была одна-единственная сардина и подгнивший помидор. Держи мы кошку, ей бы ни одной рыбьей косточки не видать.
И спали все вместе. Я посередке, а дети по обе стороны. Погибать — так всем сразу. Ночью завоет сирена, а мы хоть бы что. Замрем, сожмемся и слушаем. После отбоя, когда засыпали, когда нет, толком не знали, спим — не спим, потому что молчали, никаких у нас разговоров.
Тяжелее всего было в последнюю зиму, на фронт брали шестнадцатилетних — совсем еще дети. Все стены в плакатах. Помню, нас с сеньорой Энрикетой сперва смешил один плакат, где всех звали делать танки. Где нам понять, к чему эти танки, зато потом стало не до смеху. Прямо на улицах обучали солдат, там и мальчишки и пожилые, все подряд. Все на войну, и молодые и старые, без разбору. А война из них все жизненные соки вытягивала, губила насмерть. Столько кругом слез, столько горя и у тебя и у людей! Иногда я вспоминала Матеу, вижу как наяву: стоит в моей прихожей, даже страшно, такой несчастный, глаза синие, по своей Грисельде помирает, а она все равно бросила его. И голос запомнился, когда он говорил, что всем надо идти на фронт. Вот и попались, как мыши в мышеловку. Матеу говорил, что иначе нельзя! Иначе нельзя!..
Я до того, как продать монеты мосена Жоана, все распродала, простыни с шитьем, скатерти, ножи, вилки. Покупали мои напарницы, нас четверо было уборщиц в муниципалитете. Они купят, а потом продают и с выгодой.
Только бейся, не бейся — все равно ни денег, ни продуктов! Молоко — так, одно название, вместо мяса — конина, и то, поди, достань.
Потом стали уходить из города. Наш лавочник посмеивался: погляди на них, столько плакатов налепили, столько газет, а сами наутек… давайте, давайте… В последний день поднялся сильный ветер, и сразу похолодало. Этот ветер, помню, гонял обрывки бумаг, и они прибивались к стенам белыми пятнами. А у меня внутри такой ледяной холод, тело вообще не согревалось. Сама не знаю, как мы выжили в те дни! Пока одни уходили из города, а другие приходили, я с детьми дома отсиживалась. Спасибо сеньоре Энрикете, принесла несколько банок консервов, какой-то магазин, говорит, разграбили. Не помню от кого услышала, что где-то раздают еду, и пошла искать — где. Вернулась ни с чем. А лавочник внизу со мной даже не поздоровался.
Вечером я сходила к сеньоре Энрикете, и она мне сказала, что теперь у нас снова будет король, а раз так, значит, все наладится. Дала мне половинку эскаролы. И вот — жили! В таком голоде, а жили!
Я совсем не знала, что в городе делается, и вот приходит сеньора Энрикета и говорит, мол, так и так, Матеу прямо на площади расстреляли. Я так и обмерла, и зачем-то спрашиваю — на какой? А она мне — на какой, не знаю, но что на площади, это — точно, можешь верить, можешь, нет. Вот так, прямо на площадях людей и расстреливают. И во мне минут пять такая мука нестерпимая билась, пока не вырвалась наружу, и я сказала тихо-тихо, будто моя душа вдруг отлетела: только не это… только не это… не могло быть, чтобы Матеу расстреляли на площади. Не могло! Не могло! Сеньора Энрикета глянула на меня и говорит, не думала, что ты так будешь убиваться по нему, вон как побледнела, ни кровинки в лице. Знать бы, промолчала.
А работы — никакой, податься некуда, и продала все до последнего — кровать железную, матрац с той двуспальной кровати с шариками и часы Кимета, которые думала сберечь для Антони. Все белье, какое есть. Бокалы, чашечки кофейные, буфет. И когда ничего не осталось, кроме двух монеток мосена Жоана, а они для меня как святыня, я перемогла стыд и пошла к своим бывшим хозяевам.
XXXIV
И снова, как в тот раз, трамвай резко затормозил, когда я переходила Главную улицу. Водитель меня обругал, а люди почему-то смеялись. Я быстро, быстро — к хозяйственному магазину, встала, будто витрину разглядываю, но по правде, ничего не видела, пятна какие-то и тени разноцветные вместо кукол… И тут запах клеенки, стоялый, резкий — он всегда шел из дверей, — ударил в нос, и меня замутило. Лавка, где я корм голубям покупала, была открыта. Возле пансиона на углу служанка мела тротуар, а в баре натянули навес другой расцветки и снова поставили цветы в кадках. Я кое-как дошла до садовой калитки и дернула ее к себе, не подумавши. С этой калиткой и раньше была морока, а тут она вовсе не поддавалась. Времени-то сколько прошло с тех пор! Кое-как приоткрыла, уже руку просунула, чтобы цепочку снять, но опомнилась… Да что я в уме? Убрала руку, закрыла калитку — она осела, даже землю карябала — и нажала звонок. На галерею сразу вышел сеньор, ихний зять, огляделся по сторонам и пошел открывать.