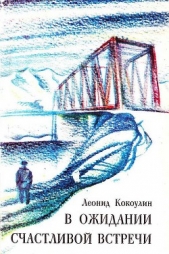Долгая и счастливая жизнь

Долгая и счастливая жизнь читать книгу онлайн
В чем же урок истории, рассказанной Рейнольдсом Прайсом? Она удивительно проста и бесхитростна. И как остальные произведения писателя, ее отличает цельность, глубинная, родниковая чистота и свежесть авторского восприятия. Для Рейнольдса Прайса характерно здоровое отношение к естественным процессам жизни.
Повесть «Долгая и счастливая жизнь» кажется заповедным островком в современном литературном потоке, убереженным от модных влияний экзистенциалистского отчаяния, проповеди тщеты и бессмыслицы бытия. Да, счастья и радости маловато в окружающем мире — Прайс это знает и высказывает эту истину без утайки. Но у него свое отношение к миру: человек рождается для долгой и счастливой жизни, и сопутствовать ему должны доброта, умение откликаться на зов и вечный труд. В этом гуманистическом утверждении — сила светлой, поэтичной повести «Долгая и счастливая жизнь» американского писателя Эдуарда Рейнольдса Прайса.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Розакок положила руку ему на запястье.
— Такой теплый вечер, может, давай подождем, а потом пойдем следом, посмотрим, к тому ли источнику они пошли.
Он взглянул на ее руку, не на лицо, и понял, о чем она думает.
— Давай, если хочешь, — сказал он, — только близко мы к самцу все равно не подойдем.
— Если потихоньку, может, и подойдем.
Уэсли достал с заднего сиденья фонарик и открыл свою дверцу. Он обошел машину спереди и ждал, пока выйдет Розакок. Они сделали несколько шумных шагов в траве, омертвевшей от заморозков, потом углубились в лес и шли порознь, глядя перед собой, потом сблизились так, что пальцы их опущенных рук задевали друг друга, и тогда уж руки их соединились так естественно, что и не понять было, кто первый взял за руку другого. Дальше они шагали медленнее, потому что ноги вязли в сухой сосновой хвое и под черными соснами стояла тьма, а Уэсли ни разу не зажег свой фонарик. Змеи уже исчезли, как всегда в начале ноября. Оба знали дорогу. И оба знали, куда направлялись — вовсе не к роднику, потому что, когда они подошли к роднику, и Розакок потянула его за руку, и, считая, что нужно сказать что-то об оленях, шепотом спросила: «Они там?», то Уэсли только фыркнул носом, давая знать, что смеется (лицо его сливалось с чернотой), и Розакок сказала: «Посвети на родник, поглядим, чистая вода или нет», но он вел ее туда, где тропинка пропадала под толстым слоем листвы и старыми истлевшими сучьями, которые рассыпались в труху у них под ногами, а об оленях у них и мысли не было, и Розакок думала только об одном: «Где же мы остановимся?» — пока они не наткнулись на куст шиповника. Уэсли шел на шаг впереди и зацепился за куст, и Розакок сходу натолкнулась на его спину. Вот тогда только вспыхнул свет (понятно, Уэсли включил фонарик, но совершенно бесшумно) и открыл им кусок заросшей бородачом поляны. Уэсли отодрал от себя куст, свет погас, и они так и не увидели друг друга.
Они молча прошли еще несколько шагов меж сухих стеблей, доходивших им выше колен. Розакок сказала:
— Давай не пойдем дальше. — Они снова остановились. — Ну-ка послушаем, — сказала она.
Они прислушались. Затем он сказал:
— Что слушать-то?
— Я думала, может, мы их услышим, — сказала Розакок. — На точно такой поляне мы с Милдред увидели оленя.
— Это не та поляна, — сказал он.
— Почему ж не та?
— Это моя личная поляна. Мистер Айзек и не знает, что она у него есть. И никто не знает про эту поляну, кроме меня.
— Я тоже не знала, — сказала Розакок, — а ведь я бродила по этому лесу всю свою жизнь.
— Вот теперь знаешь.
— Да, — сказала Розакок, но поляны она не видела. Она совсем ничего вокруг не видела. Она думала, что лицо Уэсли близко, но не слышала никакого дыхания, кроме своего собственного, и еще она думала, что они стоят на ровной земле. Левую ее руку держали те самые жесткие пальцы, но, протянув к нему и правую руку, она коснулась сухих стеблей, и они словно вздохнули. Внезапно испугавшись, она отдернула руку и подумала: «Я даже не знаю, Уэсли это или нет. Я не видела его лица с тех пор, как мы вышли из машины». И, стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее, она сказала:
— Не посветишь, чтоб я посмотрела твою поляну?
— Уж не хочешь ли ты ее сфотографировать? — Он стоял к ней лицом и говорил голосом Уэсли, но с этой минуты она нетвердо знала, кому себя отдает.
— Я оставила кодак в машине, — сказала она. — И ночью им не снимешь.
— Ну, раз тебе свет не нужен, то мне и подавно, — сказал он, и взял Розакок за другую руку, и легонько толкнул ее на землю… Высокая трава-бородач полегла под ними, а вокруг них стояла торчком, и Розакок закинула руки за голову и крепко ухватилась за пучок жестких стеблей.
«На свету они, наверно, такого цвета, как борода у Майло», — подумала она, и это было последней ее отчетливой мыслью.
Уэсли свет был не нужен. Он пригнулся к ней, и все началось, но, если бы даже ярко светило солнце, она не увидела бы единственного, что ей необходимо было видеть; это хоронилось где-то в нем, когда он делал с ней то, на что она сама его вызвала, хоронилось там, где он был один, или еще хуже, с теми картинами, что подбрасывала ему в темноте память — какое-то другое место, где он предпочел бы сейчас быть, или девушка, которая куда лучше ее. Но у него не вырвалось ни слова, и она так и не знала, где он сейчас. Он только делал движения, но даже в этом он был совсем не такой, как в те вечера, когда они встречались; что бы он ни делал, он всегда оставался наедине с собой, но на этот раз он действовал еще и с расчетом, точным, как зубчатая передача, — он двигался сначала медленно и плавно, точно глазное яблоко под веком, не сильнее, чем колыхание кресла-качалки, касаясь одного только неведомого ей местечка, но вскоре, воодушевившись, продвинулся дальше толчками, будто на веслах, будто он был самой чудесной на свете лодкой, а она — морем, которое несло его туда, куда он так стремился, а потом ей показалось, что он превратился в десяток мужчин, со множеством рук и ртов, и все они тоненько постанывали без слов, и под конец они сошлись почти вплотную и выдохнули одно долгое «да», и тогда все, что он до того делал так осторожно, обрушилось на них обоих, как развалины, и остались только зажатые в ее кулаках сухие стебли и опять только один мужчина, который лежал на ней мертвым грузом и нежно, как никогда, прошептал ей в ухо: «Спасибо тебе, Мэй» (а это не имело ничего общего с ее именем), и, не сознавая, что он произнес, сразу же направил фонарик в небо. Луч света беспрепятственно протянулся вверх, и она отвернулась, стараясь скрыть от Уэсли то, что он сделал с ее лицом, какое выражение он на нем оставил. Но он ничего не заметил. Он разглядывал столбик света в небе.
— Ты знаешь, этот свет так и будет лететь вечно, — сказал он немного погодя. Она не ответила, и он провел тыльной стороной руки по кусочку ее тела, сухого, как персиковая кожица, и прибавил:
— Ему не на что наткнуться, и мы с тобой станем старичками, а он так и будет лететь.
Сейчас, когда они лежали неподвижно, стал чувствоваться ночной холод, и по телу Розанов под его рукой пробежала дрожь.
— Этому тебя тоже научили во флоте? — спросила она.
— Так точно, — сказал он. — А что, способный я ученик? — И рукой он опять попросил того, что только сейчас она отдавала ему так свободно, но она удержала его.
— Почему? — спросил он, естественно считая, что имеет на это полное право.
— Меня ждут дома.
— А что тебя ждет дома лучше, чем вот это? — И он притянул в темноте ее руку к себе.
Но ее рука была безжизненной. Она ее отдернула, и Уэсли услышал, что она встает.
— Если ты не отвезешь меня домой, придется идти пешком, но раз уж ты так хорошо знаешь эти места, одолжи мне, пожалуйста, твой фонарик.
Он посветил ей в лицо и, увидев его, произнес:
— Господи Иисусе! — ибо это не была та Розакок, всегдашняя Розакок.
Она смотрела прямо вниз, на фонарик, не видя Уэсли за светом и уже не прячась от его взгляда. Она приоткрыла рот, думая, что, если заговорит, ненависть на ее лице сменится каким-нибудь выражением помягче — ну, раскаянием, например. Но она только и смогла, что вобрать голову в плечи, и если во флоте он иногда забывал, как она выглядит, то теперь уж не забудет.
— Ты что? — спросил он.
— Ничего, — сказала Розакок и пошла к дороге.
Уэсли сначала должен был привести себя в порядок, и Розакок, дойдя до края поляны, где начинались кусты шиповника, остановилась и подождала, пока он ее нагонит с фонариком. Когда он приблизился и свет лег у ее ступней, она пошла дальше, не замедляя шага, но стараясь не попасть ногой в кружок света, будто и это прикосновение было для нее невыносимым. Уэсли молча шагал позади, но неподалеку от родника, где тропинка стала шире, он оказался рядом с ней.
— Может, остановимся на минутку, посмотрим, замутили воду олени или нет, — сказал он.
— Очень тебе нужны эти олени, — ответила она и побежала к машине.