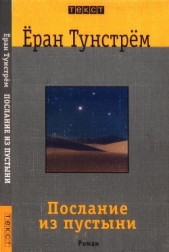Рождественская оратория

Рождественская оратория читать книгу онлайн
Впервые в России издается получивший всемирное признание роман Ёрана Тунстрёма — самого яркого писателя Швеции последних десятилетий. В книге рассказывается о судьбе нескольких поколений шведской семьи. Лейтмотивом романа служит мечта героини — исполнить Рождественскую ораторию Баха.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— И все же?
— Родители мои были как мох, приземленные, задавленные. Альфонс, сказали они, поезжай в Америку или иди работать на стройку, только не убивай нас этакими сумасбродствами. Однажды в нашем городке выступали бродячие артисты, я примкнул к ним и начал тренироваться. А это как отрава для плоти. Если б ты хоть раз почувствовал, что значит лететь, быть подброшенным в воздух, всего-навсего десять — пятнадцать секунд — и конец, но, как бы то ни было, ты кое-что совершил. Показал себя с необычной стороны и знаешь, что о тебе будут говорить.
Таихапе, июль.
Дорогой Арон!
Сегодня миссис Уинтер угощала меня кофе, я пришла перед самым закрытием, она кивком пригласила меня в свою квартиру. Тогда я уже поняла, что для меня есть письма. Заметив мое волнение, она сказала: я ненадолго выйду, а ты устраивайся здесь, читай, никто тебя не потревожит. Я расплакалась. До сих пор, говорю тебе, Арон, как на духу, никто никогда не разговаривал со мной на равных, не заглядывал мне прямо в душу. Жизнь беспощадна, а ведь может быть доброй. Кого и чего люди так сильно боятся? Собственной свободы? Или своих огромных возможностей? Вернувшись, она стала у меня за спиной и начала разминать мне плечи, но не сказала «не плачь». Сказала: не смущайся, плачь сколько хочешь. Какое чудесное письмо о шведском лете! Я прямо воочию видела, как вы сидите в траве, ты и король воздуха, и слушаете птиц.
Да, я выплакала толику слез, что накопились за двадцать два года моей жизни, роняла слезу за слезой в чистых прохладных комнатах миссис Уинтер, с тюлевыми занавесками и цветами на всех окнах, с ароматами, веющими из ухоженного сада. Я преклоняю мою жизнь к твоим письмам, к их аромату. Как ты выглядишь? Я имею в виду внешне, ведь внутренняя твоя сторона, важная, истинная, думаю, мне знакома.
Ты воскресил меня из мертвых.
(Несколько дней спустя.) Сейчас, в середине июля, оконные стекла подернуты инеем. На севере, над верхушками деревьев, облака тумана, мы — дети облаков. Конечно, так называют маори, но я — одна из них, не по рождению, а по желанию. Я принадлежу к растоптанным. Я пакеха, то есть белая, но что, кроме цвета кожи, соединяет меня с Робертом, с окрестными соседями-фермерами? У маори есть такое понятие — «тапу», запретительные предписания, над которыми белые насмехаются, но сколько же запретов окружает нас, их куда больше, чем придумали маори.
Нынче утром я опять ходила к миссис Уинтер. Хотела помочь ей со стиркой. Роберт ворчал, что и дома дел хватает, но я сослалась на ее больную спину. Он мне не верит. Не верит никому и ничему, всё у него отговорки да вранье. Я вышла за калитку, как раз когда облака поредели, черные и полосатые поросята зябли, но в листве уже поблескивало солнце, сосульки сверкали на ветках. Несколько туи[39], веером раскинув хвостовые перья, порхали на прогалине — у нас здесь тоже есть прогалины. Я немного посидела там, зарыв замерзающие пальцы в мох, не знаю, зачем я так делаю, кто-то говорил: если роешься во мху, накличешь снег.
Мы, пакеха, самые настоящие неудачники, проигравшие. Мы явились сюда, отняли у маори землю, «окрестили» их, а теперь сидим в плену у своей земли, у своих вещей, которые ревниво стережем, живем в стране, которая еще не вошла нам в плоть и кровь, мы чужаки, ведь маори уже нарекли имена горам, рекам, деревням, всему, что могло даровать нам историю. Спроси Роберта или меня, что означает то или иное имя, — мы не знаем. У нас нет общей истории с именами вроде Маунгапохатус — страна Уревера. Что сообщают эти имена, нам неизвестно. Приезжающим сюда туристам (их немного, но все-таки) всегда говорят: это аборигены придумали. Для нас нет ни призраков, ни звуков. Мы презрительно бросаем «придумали», так как устали оттого, что не способны наполнить свою душу легендами и мифами. Прямо перед нами история кончается, и не стоит воображать, будто она продолжается в Англии, разрыв слишком велик. Наш язык так уродлив, полон ругательств, упрощений и остранений. Варварский язык каторжников по-прежнему проникает в мои, в наши нервы, язык без гордости, он держит нас в плену мерзкого образа мыслей. Если он тебе претит, приходится либо плыть назад в Англию, в Оксфорд, либо стать романтиком маори. Евреи, что живут здесь, хотя бы, как мне представляется, имеют собственные традиции, пусть даже и размытые, поблекшие, имеют свои особенности, на которые могут опереться. Поэтому они сознают свою непохожесть, свое тождество. А у нас только и есть, что религия вечного отрицания, делающая нас калеками.
Вот так я шла и размышляла обо всем об этом, что решила рассказать тебе. Я неученая, хотя кое-что и читала, моя жизнь занимает всего несколько гектаров, но ведь я вижу горы вдали. Я ездила автобусом в Веллингтон, взгляд мой блуждал за окном, я чуяла овец. Мне не боязно открыть тебе мое невежество, Арон, ведь та, что ходит здесь
в этом платье, всего лишь часть меня. Во мне есть другой человек, который только сейчас становится зримым, благодаря тебе.
Целую тебя,
Тесса
В этом письме лежала засушенная роза, еще источавшая благоухание.
_____________
Однажды пришло совсем другое письмо. Оно было адресовано гостиничной администрации и касалось бронирования номера. Такую почту Арон вскрывал на кухне у Царицы Соусов и г-жи Юнссон. Эти утренние часы с тихими разговорами о закупках и заказах и ленивыми пересудами о вчерашних попойках были самым лучшим временем для Арона, и, верный своей привычке, он прочитал письмо вслух:
Настоящим хочу заказать номер в Вашей гостинице на 17–18 текущего месяца, так как в связи со съемками фильма, которые будут происходить в Ваших краях, мне необходимо место, где можно отдохнуть, желательно инкогнито.
Искренне Ваш Фридульф Рудин[40], актер
Наступила тишина, как перед землетрясением. Потом письмо выхватили у Арона из рук, Царица Соусов плюхнулась за стол прямо напротив него, прочитала листок и разразилась неудержимым смехом.
— «Которые будут происходить в Ваших краях»! Ну и чудак это Фридульф Рудин. Фик-фок, явился в городок, Господи Боже мой. — Смех ее докатился до ресторанного зала, до Стины Эрстрём, сухопарой, с острым подбородком. Не выпуская из рук мокрой тряпки, она заглянула в дверь.
— Комик едет в городок! Фик-фок! — Царица Соусов опять засмеялась. — Глянь, Стина, эк забавно он пишет.
Стина, к всему написанному относившаяся с подозрением, опасливо глянула на строчки, потом обернулась к Арону.
— Думаешь, что-нибудь выйдет?
— В каком смысле?
— Расскажет он что-нибудь? «Одинокую собаку» или другое что?
— Ты читать умеешь? — сказал Арон. — Место ему необходимо, где можно отдохнуть. Причем соблюдая полное инкогнито, понимаешь?
Этого она отнюдь не понимала, решительно отжала тряпку прямо посреди кухни, бегом кинулась за пальто и исчезла на улице, крепко стиснув сухие губы.
Что обеспечить гостю покой будет трудно, Арон догадался, уже когда позвонил сам Бьёрк и сообщил, что именно на этот выходной ему нужен номер, «чтобы тихо-спокойно обдумать кой-какие проблемы». Вслед за тем позвонил депутат риксдага Перссон, который «примерно в то же время» поедет в Карлстад на выставку лошадей и «хочет быть поближе к вокзалу». Мало того, в конце концов заявился Ёте Асклунд, заказал себе «chambre»[41] — знал, стало быть, как и весь город. Ёте навис над стойкой, словно этакий куль нюхательного табака и водки.
— Думаешь, мне твоя гостиница не по чину.
— Почему? Только вот непросто это.
— Жаль, хозяин не слышит, что тебе деньги получать неохота. А ему они нужны. Гляди. — Ёте шваркнул на стойку бумажник. — Пересчитай-ка, Арон, и возьми сколько надо, я прошу одноместный номер. — Он нагнулся еще ближе и сгреб Арона за лацканы, руки у него тряслись, но не от злости, а по другой причине. — Ты знаешь, Арон, сколько во мне силы. В два счета могу свернуть шею и тебе, и всей гостинице. Но я такого не сделаю, я человек порядочный, сам знаешь.