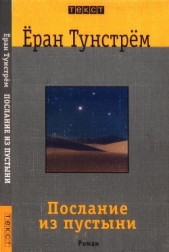Рождественская оратория

Рождественская оратория читать книгу онлайн
Впервые в России издается получивший всемирное признание роман Ёрана Тунстрёма — самого яркого писателя Швеции последних десятилетий. В книге рассказывается о судьбе нескольких поколений шведской семьи. Лейтмотивом романа служит мечта героини — исполнить Рождественскую ораторию Баха.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Удивительное письмо, сигнал, преодолевший непостижимые расстояния, оно подтверждало что-то, что он знал и все время предчувствовал, ведь сиротливый писк и треск шли из пространства вовне, а в этом пространстве обреталась Сульвейг. Слушать — это все равно что творить молитву, и Арон лучше других умел истолковывать знаки, осваивать их. Часто он досадовал на Слейпнера и Фелльдина, которые поворотом ручки заглушали сигналы, как раз когда он начинал обнаруживать порядок в их загадочных посланиях.
Написал, а вернее, надиктовал это письмо новозеландский фермер-овцевод. Жил он на ферме, вместе с сестрой, по имени Тесса. У них было четыре сотни овец, но летом, которое скоро кончится — вы только послушайте, вздохнул Слейпнер, — оставалось время и на это новое увлечение. Раньше ему случалось устанавливать контакт с Австралией и Индией, а уж на такую удачу, как эта, он никогда и надеяться не смел. Буду очень рад продолжать контакты и впредь, а особенно будет рада моя сестра, которая пишет эти строки, потому что моя собственная рука в лубках, после несчастного случая. Изгородь ставил. Подписал Роберт Шнайдеман рукою Тессы.
— Кто-нибудь хочет прочесть сам?
Фелльдин быстро пробежал письмо глазами.
Связь установлена, и точка. Юно Ланц, кладовщик фабриканта Юлина, крутил листок так и этак, по-английски он не понимал, но нельзя ли ему взять марку?
— Нет, — отрезал Фелльдин. — Думаю, нам надо складывать письма в особый ящик. Может, их в конце концов много наберется, вдруг мы выстроим большую контактную сеть. А если отдавать марки, письма будут рваные.
— Так можно отмочить, — сказал Юно, — я сколько раз так делал.
— Текст испортится.
Арон разбирал письмо, дело спорилось, он откашлялся:
— А кто возьмется ответить на письмо? Ведь ответить-то нужно, так?
Фелльдин подбросил в печку дров.
— Вот ты и возьмись, — сказал он Арону. — Ты же знаешь английский.
— Кто? Я? Мне и писать-то не о чем.
— Да таким людям можно писать что угодно, — фыркнул Фелльдин.
Тут он и скажи свое:
— Нет. Нельзя. Дальних контактов бояться надо. Сильно.
Он закрыл глаза и принялся листать старый атлас, который он и Сульвейг так часто рассматривали вместе с детьми, сидя под вечерней лампой. Он помнил, как она показывала на американские штаты, говорила о поездках к маленьким, едва заметным точкам на бумаге. Вот тут есть мельница на реке, да, это река, хоть и не верится, широкая, медлительная река, однажды вечером мы сидели на берегу — папа, Слейпнер и я… Аккурат перед тем, как он исчез, мне было всего пять лет, мы удили рыбу, разложили костер на берегу, мама и он молчали, я перепугалась, ничего не могла понять и до сих пор не понимаю…
Открыть атлас — все равно что снижаться с воздушных высот, возле земли можно сделать лист прозрачным, и тогда значки оборачиваются реальностью: лесами, ложбинами, горами, когда-нибудь они собирались вместе отправиться в долгое путешествие.
Фелльдин огорчился, когда никто слова не сказал про передатчик. Будто надеялся, что они расцелуют его или хотя бы посмотрят с некоторым уважением. Шагая в тот вечер домой, Арон уносил в себе всю Новую Зеландию. Уносил океаны меж континентами, уносил ночь и день, что их разделяли.
Он написал письмо. Сперва по-шведски, потом перевел, с помощью словарей и завуалированных расспросов Слейпнера, который сказал ему:
— Как я понимаю, ты письмо пишешь. И правильно делаешь. Тебе нужна пища для размышлений. И как знать, может, эта женщина аккурат для тебя.
Дорогие друзья-радиолюбители!
Дорогие Роберт и Тесса!
Пишу вам из снежной Швеции, вокруг наших домов высятся сугробы, на улице мороз, звезды мерцают долгими ночами, и, словно падучая звезда, прилетела к нам весточка с другой стороны земного шара.
Удивительно, что такому суждено было произойти. Я, пишущий эти строки отчасти по поручению товарищей, но во многом и по собственной воле, — я человек очень одинокий, моя жена умерла в результате несчастного случая, но моя жизнь до сих пор чересчур сосредоточена в ней, ничто пока не сумело отвлечь меня на другие мысли, хотя я имею двоих детей, сына и дочку, и бессмысленную работу швейцара в гостинице. Раньше я крестьянствовал, держал небольшое хозяйство, где мы вместе работали, но в одиночку я там не сдюжил, сил не было жить в прошлом, ведь каждая комната, каждая часть дома насыщена ее присутствием.
Я теперь вроде как полчеловека. Наверно, мои дни наполнятся, если я буду знать, что время от времени станут приходить письма, если можно будет фантазировать о далеких краях, заполнить пустоту новыми знаниями. Мне только тридцать пять лет, а я как бы утратил власть над существованием, вернее, оно утратило власть надо мною. Если бы вы сумели как-нибудь мне помочь, я был бы вам очень-очень благодарен.
С сердечным приветом,
Арон Нурденссон
Прошло несколько месяцев, выглянуло вешнее солнышко, снег таял, дни стали длиннее, и Арон, который жил своим письмом, этим первым окошком наружу, начал склоняться к мысли, что оно потерялось по дороге или что он предъявил этим незнакомым людям непомерно высокие требования, — как вдруг в первых числах апреля в почтовом ящике обнаружился длинный узкий конверт.
Таихапе, апрель.
Дорогой г-н Арон Нурденссон!
Дождь лил как из ведра, когда пришло Ваше письмо. Я вместе с братом стригла во дворе овец и успела вымокнуть до нитки, когда увидела почтальона. Письма я получаю нечасто. И уж вовсе редко из такого дальнего далека, к тому же я почти забыла, что написала ту весточку от брата, которая, как я понимаю, и послужила поводом для Вашего письма.
Письмо откровенное, прямо-таки шокирующее. Я словно вдруг узнала, по-настоящему узнала человека. Ведь я мало что знаю о людях. Всю жизнь жила здесь на ферме, с тех пор как родители мои утонули на лодке. Несколько раз в год я езжу с братом в Веллингтон, по делам, но в Веллингтоне чувствую себя чужой, я — девушка деревенская, разговоры о коммерции меня не интересуют. Зато я много читаю, что, кажется, вызывает у брата раздражение. Он говорит, я из-за этого отстраняюсь от хозяйственных нужд, забиваю себе голову всякими идеями, и, пожалуй, он прав.
Пишу я Вам с робостью и стыдом, Вы оказали мне доверие, а я не знаю, как на него ответить. Ведь у меня самой нет никакого опыта — помимо гибели родителей, — что мог бы сравниться с Вашим. Но какие страдания вообще сравнимы? Они все уникальны. Испытания у каждого свои и всегда самые тяжелые. С другой же стороны, я, наверно, ошибаюсь, недооценивая опыт собственной жизни. Просто мне кажется, будто опыт этот — в той мере, в какой он существует, — так и не был проверен.
Одиночество — тоже опыт, тоже знание? Идти ранними утрами через поля, смотреть за пастбищами, собирать вредных гусениц, менять выпасы, молчать вместе с братом в безмолвной кухне, видеть его одиночество — это опыт? Роберт застенчивый, робкий, думаю, из-за несчастья с рукой, на самом деле он повредил ее вовсе не недавно, хоть и велел мне так написать. Кисть у него ампутирована давно, он носит протез и всякий раз, как кто-нибудь приходит, старается его спрятать. Его безмолвная спина — часть моих мучений. Его взгляды, устремленные в сторону, его ревность. (Я должна быть перед Вами честной, в конце концов мы ведь никогда не встретимся и не можем осудить друг друга, Вы не можете осудить меня, просто так хорошо наконец-то, наконец после стольких лет найти человека, которому можно написать обо всем.) Да, он прочел Ваше письмо без радости, напротив, с недоверием и презрением. (Словно в первый раз именно я заставила его написать.)
Мне двадцать два года, у меня никогда не было мужчины, но жажда моя так велика, что часто мне хочется умереть, и прохлада объемлет меня лишь в церкви, где я часто бываю. Однако ж моя жажда не греховна, просто мне не дано ее утолить. Странно, что я рассказываю об этом Вам, мужчине, которого никогда не видела, мне так спокойно при мысли, что Вы далеко, на другой стороне земного шара; щеки у меня горят, когда я пишу эти слова, у плиты, во время дождя, который стеной обрушивается на поля, дождь до того густой, что я трудом могу разглядеть спину брата, склоненную над овечьим загоном (полчаса назад одна из овец оягнилась).