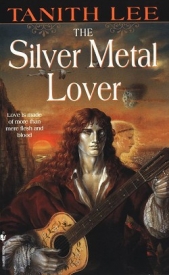Молчание в октябре

Молчание в октябре читать книгу онлайн
Йенс Кристиан Грёндаль — один из самых популярных писателей современной Дании. Его книги издаются как в Европе, так и в Америке.
Роман «Молчание в октябре» посвящен сложным человеческим взаимоотношениям, рисуя которые автор проявляет тонкую наблюдательность, философичность и изящество. Непростая история, связавшая так непохожих друг на друга персонажей, превращает действие романа в нервную интригу и держит читателя в напряжении до последних страниц.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Полил дождь, и мы припустили рысью к подруливавшему такси, что было весьма легкомысленно; впрочем, так поступают все люди, бегущие под дождем, воображая, что если бежать быстрее то меньше намокнешь. Инспектор музеев сел на переднее сиденье, а я сзади, рядом с его женой, довольно красивой, но полноватой женщиной с аккуратной короткой стрижкой. Он, который кутил напропалую в годы нашей юности, шатаясь по барам и вечеринкам подобно дикому дионисийскому кентавру, и залезал в трусики к каждой смазливой девице, в конце концов женился на этой мягкой, застенчивой и неприметной женщине, и не я один немало дивился его выбору. Поначалу мне казалось, что дело здесь в неком моральном перерождении, да и сам он говорил о будущих детях с сентиментальным пиететом, в котором я никогда не мог бы заподозрить его. Но детей они так и не завели, а он вскоре опять принялся за старое, бесчинствуя, точно лис в курятнике. С годами он и впрямь стал напоминать старого лиса, не утратившего вкуса к молодому мясцу. Я не переставал удивляться тому, что новое поколение юных красавиц нашего города, подобно своим более зрелым и вечно рожающим предшественницам, также не в силах было устоять перед этим лысым, тощим, отнюдь не мужественным человеком. Объяснение этому я услышал от одного нашего общего знакомого, лирика, который сам все еще выглядел так, точно ему лет двадцать пять, и ни дня больше. Я не должен забывать, сказал он, что молодые женщины всегда витают в облаках. Кожа у инспектора, быть может, и впрямь слегка пообвисла, но его глаза в очках со стальной оправой все еще излучают неотразимое обаяние мужской силы.
Он не делал секрета из своей все прогрессирующей неверности ни для кого, кроме своей кроткой, ни о чем не подозревающей жены. Вероятно, он надеялся, что его друзья пощадят ее чувства и не откроют ей неприглядной правды о его беспутстве. Я был немного шокирован его поведением и не скрывал этого от него, между тем как на Астрид его переходящая все границы неверность не производила ровно никакого впечатления. А когда я однажды спросил ее, что бы она сказала, если бы я в один прекрасный день пустился во все тяжкие подобно нашему другу, она поцеловала меня в лоб и ответила, что у меня на это нервишек не хватит. Она наблюдала за его любовными шашнями, не осуждая, но и не оправдывая его, отстраненно, словно речь шла о незначительном проступке, который не стоит того, чтобы о нем рассуждать. Видимо, в этом она была права, и я даже восхищался ею за эту способность делать различия между теми сторонами его натуры, которые были ей несимпатичны, и теми, которые она в нем ценила. У нее была слабость к циникам, к их беззастенчивому кощунственному юмору, и инспектор музеев иногда заставлял ее хохотать до слез. Во время ужина я сидел за столом несколько поодаль от его жены, и нам не удалось поговорить. Теперь же она, вероятно, захотела проявить любезность и задала мне вполне невинный вопрос о том, как поживает Астрид и какой фильм она сейчас монтирует. Я отвечал на ее вопросы, и у нас даже вышла короткая беседа, пока мы ехали по направлению к городу. Я всегда действую успокаивающе на застенчивых людей, в моем обществе они чувствуют себя более уверенно, и у них развязывается язык, что может показаться несколько тягостным, но в то же время и спасительным в некоторых случаях, вот как, например, сейчас, когда мы с ней очутились вместе в тесном салоне такси. Под конец она окончательно расчувствовалась и попросила у меня прощения за то, что ее муж так неуважительно говорил о моей дочери за аперитивом. Я не согласился с ней и заметил, что, строго говоря, неуважительно говорилось не о Розе, а о ее возлюбленном. Инспектор музеев тут же ухватился за мой оправдывающий его маневр и подтвердил, что речь шла вовсе не о Розе. И, собственно, с чего это она вмешалась в эту историю? В конце концов, почему бы не позволить себе быть откровенным, когда беседуешь со старыми друзьями? Но его жена возразила, что всему есть границы, ведь речь идет о совсем молодых людях, и откуда ему знать, может, я считаю возлюбленного Розы славным парнем? Инспектор музеев презрительно фыркнул при словах «славный парень» и повторил свою уничижительную оценку смехотворной и фанатической приверженности этого «славного парня» авангардизму. Я попытался выступить в качестве посредника в споре между ними, но кончилось тем, что я взял под защиту инспектора музеев. Их перебранка прекратилась лишь тогда, когда она попросила шофера остановить машину около ночного киоска и вышла, чтобы купить сигареты. Мы сидели молча в ожидании, несколько скованные присутствием шофера, но вдруг инспектор повернулся ко мне и посмотрел на меня взглядом, в котором читалось почти отчаяние. Он сказал мне, что я счастливый человек. Что он имеет в виду, спросил я. Ну, я счастливый человек, пояснил он, потому что у меня есть Астрид. Я не знал, что на это ответить, и сосредоточился на том, чтобы не выдать чем-нибудь охватившего меня волнения и спокойно встретить его полный отчаяния взгляд в полутьме машины. Запах алкоголя, исходивший от него, достигал заднего сиденья в углу, где я сидел. Ему хотелось бы кое-что рассказать мне. Говорила ли мне когда-нибудь Астрид, что он однажды, когда я был в отъезде, попытался затащить ее в постель? Ему явно было безразлично, что шофер сидит с ничего не выражающим лицом и жадно ловит каждое наше слово, лениво наблюдая, как дождь стекает по ветровому стеклу длинными полосами. Он сказал, что беспокоиться мне не о чем. Это случилось давно, пять лет назад, не меньше. К тому же она отвергла его. Впрочем, я, наверное, другого и не ждал, не так ли? Он помаргивал за стеклами очков, в которых отражались отблески неоновой рекламы. В его глазах была какая-то демоническая веселость, которая так не вязалась с его серьезным, почти жалким лицом, придавая ему неестественный, театральный вид. Он продолжал свои откровения. Это случилось однажды после званого ужина, такого же, как сегодня вечером. Жена его была в тот раз нездорова, и он явился на ужин один. Он отвозил Астрид домой, и они были в машине вдвоем. Ему показалось, что они так весело хохотали вместе, что между ними в тот вечер возник особый контакт. К тому же никогда ничего не знаешь наверняка, ему ведь неизвестно было, какие у нас с ней отношения. В машине они болтали о всякой всячине, как можно говорить только с Астрид, я ведь его понимаю, и он, повернув руль, вроде бы случайно положил руку ей на колено, а она ее не сбросила. Я слушал его, рассеянно наблюдая за движением дворников на ветровом стекле. Я видел его жену, которая внутри киоска, в очереди, переминалась с ноги на ногу и разглядывала глянцевые изображения гамбургеров и сосисок над прилавком. Лицо ее при неоновом освещении было совсем белым, а взгляд отсутствующим. Инспектор музеев продолжал свои излияния. Он не знал, ощутила ли Астрид вообще его руку на своем колене — ведь она была немного пьяна, но тем не менее она все же не сбросила ее. Стало быть, и вправду был какой-то контакт, если можно так выразиться, и он решил не убирать руку с ее колена. Остановив машину перед нашим подъездом, он попытался поцеловать ее, но она лишь отвернула лицо, улыбнулась, и не успел он и слова вымолвить, как она сказала «доброй ночи», вышла из машины и захлопнула за собой дверцу. Никто из них впоследствии никогда не упоминал об этом эпизоде. Неужто она и вправду никогда мне об этом не рассказывала? Я следил взглядом за его женой. Она вышла из света неоновой рекламы круглосуточного киоска, и теперь ее темный силуэт приближался к нам. Инспектор музеев похлопал меня по ляжке и примирительно улыбнулся. Теперь, по крайней мере, я знаю, что за гнусная скотина этот человек, который считается моим другом.
Я никак не мог прийти в себя и лечь в постель, хотя было уже больше двух часов ночи. Снова сидел за своим письменным столом, не зажигая лампы, в темноте, и смотрел в окно, за которым тьма была еще более густой и всепоглощающей. Насколько я мог заметить, дождь уже прекратился. Уголек моей сигареты отражался в оконном стекле, тлея ярче и становясь краснее, когда я затягивался, и он, этот огонек, был здесь единственным признаком жизни. Свет в окнах домов по другую сторону озера был погашен, горели только уличные фонари, и городское освещение отражалось в небе еле заметным оранжевым отблеском, который всегда напоминал мне отблески пожара на леденящих душу изображениях Страшного Суда в картинах Хиеронимуса Босха. Свет уличных фонарей не достигал верхних этажей домов, выхватывая из тьмы лишь отдельные ряды неосвещенных окон, а нижние части стен тонули во тьме, столь же густой, как и та, что окутывала озеро. И лишь блестящий, влажный от дождя асфальт, казалось, находился в отрыве от окружающего мира и длинной лентой света над призрачными, частично освещенными домами тянулся в черное никуда. Этот вид напомнил мне знаменитую картину Магритта «L’Empire des lumières» [2], которая изображает мрачную виллу у ночного озера, окруженную темными деревьями и освещаемую лишь одним, навевающим тревожные предчувствия фонарем, парадоксально и со скрытым лукавством помещенным художником под голубоватым небом с белыми облачками. В любое другое время я бы занялся исследованиями и попытался понять, что же такое было в этом виде за окном, что могло напомнить мне о картине Магритта, подобно тому, как какая-либо другая картина заставляла меня пускаться в воспоминания о каком-нибудь былом восприятии, об особом освещении каких-то полузабытых распахнутых ворот или переулка, которые на миг касались краешка моей памяти, для того чтобы миг спустя поблекнуть и сгинуть. Со временем мои воспоминания сами по себе превратились в картины и сливались с воспоминаниями обо всех картинах, которые я видел, до тех пор пока я сам не переставал ощущать разницу и мне трудно становилось отделять одно воспоминание от другого, поскольку и те и другие при всех обстоятельствах были одинаково расплывчатыми, искаженными и произвольными мгновенными озарениями. Теперь же мне было не до Магритта, не до размышлений об игре света, я просто сидел и тупо смотрел во тьму, потому что знал, что мне все равно не уснуть. К тому же я всегда считал Магритта не более чем старательным студентом и плохим художником.