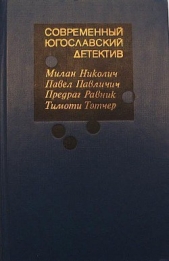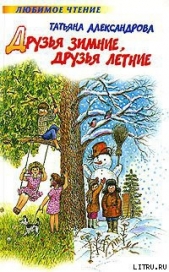Зимние каникулы

Зимние каникулы читать книгу онлайн
Известный югославский прозаик, драматург и эссеист Владан Десница принадлежит к разряду писателей с ярко выраженной социальной направленностью творчества. Произведения его посвящены Далматинскому Приморью — удивительному по красоте краю и его людям. Действие романа развивается на фоне конкретных событий — 1943 год, война сталкивает эвакуированных в сельскую местность жителей провинциального городка с крестьянами, существующая между ними стена взаимного непонимания усложняет жизнь и тех и других. В новеллах автор выступает как тонкий бытописатель и психолог.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В семье Бариши все думы и разговоры вертелись только вокруг доктора и все планы связывались только с ним. Тема эта как-то сама собой прилеплялась к любой другой, и всякий разговор в конце концов неизбежно упирался в нее. Домочадцы Бариши отдались этому всецело, с тем слепым терпеливым старанием, за которым угадываются твердость веры и упорство страсти, с той беззаветностью, с какой крестьянин умеет приналечь на дело, на котором сосредоточены все его помыслы. По вечерам все долго лежали впотьмах без сна и, глядя на языки пламени в очаге, под свист и вой ветра в кровле думали свою думу — каждый в особицу и в то же время все вместе, как, к примеру, лущат кукурузу или чешут шерсть. И когда сон смежал глаза, Бариша завершал свои раздумья словами, словно общую молитву: «Эх, если б только господь дал счастья…»
Он позарился на один земельный участок и очень боялся его упустить. Фуратто в свою очередь хотелось покончить дело до возвращения Юреты. Однако еще велика была разница между тем, чего требовал Бариша, и тем, что Фуратто готов был дать. И тут помогла Ката, сразу обретя значение в доме Фуратто: в решающий момент она сломила упорство Бариши, неожиданно бросив ему в лицо:
— Что это ты все охаешь да притворяешься, будто ничего не видишь перед собой, а сам разгуливаешь по селу без поводыря, совсем один!..
— Кто? Я?! Неправда это!
— Кто же еще, как не ты. Уж мы-то знаем, что не дальше как вчера ты носил кузнецу лемех точить, видели тебя люди. А как сюда идешь, то получше завязываешь глаза и заставляешь Иве вести себя, в приемную входишь по стенке и ощупываешь стул, прежде чем сесть!
Бариша опешил от неожиданности — на такой случай у него не был припасен ответ. Правда, он сделал робкую попытку защититься, клялся и божился, что один глаз у него вовсе не видит и другой едва-едва различает свет, а по селу он ходит, потому как знает наизусть каждую стежку и каждый камень. Однако он почувствовал, что шансы его пошатнулись. В душе он клял этого завистника Мату Сикирицу — только он мог выдать его доктору. Короче говоря, в тот день было достигнуто окончательное соглашение и выплачена компенсация.
И опять это был день кризиса в доме Фуратто. И в этот день обед остался почти нетронутым, Ловро опять отказался от послеобеденного отдыха, опять с озабоченно-покаянным видом вдоль и поперек мерил шагами приемную. Как и в прошлый раз на него напала икота. Сейчас ему, как никогда, нужны были ласка, поддержка, нежная забота. Но, увы, повторяемая сцена не дала прежнего результата. Госпожа Ванда скорее в раздраженном состоянии духа сидела на краешке дивана и рассеянно смотрела в окно. Ловро нерешительно остановился перед ней.
— Если б не эта история, мы могли бы на Пасху поехать недели на две в Венецию…
Госпожа Ванда вытянула шею и, заморгав, как мокрая курица, с трудом проглотила слюну.
— Оставь, пожалуйста… — прошептала она глухим, сдавленным голосом. Хватит с нее этой Венеции, которой ее только дразнят, играют, словно солнечным зайчиком, которую ей сулят, как вечное блаженство, вот уже целых пятнадцать лет. С самого венчания, когда свадебное путешествие было отложено ради того, чтоб помочь брату Ядре и «на эти деньги» купить у Маты Буйола виноградник под домом (некогда принадлежавший Фуратто), эта поездка в Венецию всякий раз ставится на повестку дня, и всякий раз ее откладывают ради чего-то более необходимого, полезного, разумного. Как-то ее отложили потому, что, по мнению Ловро, лучше было выкрасить все ставни по фасаду дома, в другой раз важнее было дать приданое Ядриной Анкице, а сколько раз просто ради того, чтоб на «известную сумму» купить облигаций…
— Умоляю тебя, не говори мне больше про эту Венецию!.. — повторила госпожа Ванда, комкая в руке платок. Этот человек, с которым она пятнадцать лет живет под одной крышей, на глазах у которого расцвела и уже начала блекнуть, никогда не интересовался ее душевным миром. А когда однажды, просто шутки ради, она робко и осторожно намекнула на свои переживания, он ограничился советом провести курс лечения карлсбадской солью! На глазах у нее выступили слезы; она вскочила, выбежала из комнаты и быстро спустилась по лестнице. Фуратто стоял среди комнаты, вперив взгляд в пустоту. Он не мог понять, что с ней вдруг случилось и почему эта женщина проливает горькие слезы при одном упоминании Венеции. Ба! Поди разбери эти женские капризы!
Разумеется, история с глазом Бариши облетела и врачей, и городских пациентов, но неприятных последствий она не имела.
Фуратто слыл добродушным стариканом и не слишком опасным конкурентом, и потому историю эту восприняли довольно благодушно и даже с юмором. Где снисходительная улыбка, где оброненная за спиной шуточка, отнюдь не злая, — вот, пожалуй, и все. Коллеги знали, что Фуратто с недоверием относится к решительным действиям — по природе своей он не был склонен к крайним мерам. Единственное, что он всегда одобрял, — это удаление зубов, ибо плохо верил в их лечение и в пользу пломбирования. Тут он неизменно повторял свой принцип: «Долой зуб — долой боль!» После истории с Баришей какой-то злопыхатель перефразировал его максиму: «Долой глаз — долой боль!» В больнице к нему по-прежнему относились с уважением. Памятуя о его слабости, оставляли ему случаи, где после врачебной помощи облегчение вспыхивает мгновенно, словно электрическая лампочка. Однажды утром, когда он вытаскивал у крестьянина из уха не то букашку, не то соринку, в комнату вошел молодой доктор Пивчевич, известный на всю больницу проказник и баловень сестер милосердия; стоя за спиной Фуратто, который никак не мог сладить с неподдающимся шприцем, он стал передразнивать его движения, раскрывая и закрывая зонтик. Старик, видимо поймав какое-то мимолетное выражение на лицах персонала или отражение в стекле шкафа, внезапно обернулся и застал молодого человека врасплох. Ни слова не говоря, он как ни в чем не бывало продолжил свое дело. Этот достойный восхищения поступок возвысил его в глазах персонала куда больше, нежели фиглярство Пивчевича могло унизить. Сестры милосердия в больнице отметили его день рождения с большей торжественностью, чем прежде, а коллеги, к его немалому удивлению, подарили барометр — на подставке из мрамора с янтарными прожилками гордо стояла бронзовая Минерва с копьем и в шлеме.
Итак, и этот кризис, как и прочие, миновал, и Фуратто вновь вошел в колею нормальной жизни. После обеда уходил с госпожой Вандой в спальню и отдыхал до четырех часов. Потом вставал, одевался, клал в кармашек жилета свои золотые часы, продевал в петлю цепочку и шел в кофейню. Ровно час сидел за чашкой кофе с молоком, болея за игроков в домино. Обдумывая следующий ход, игроки, по преимуществу старые люди, иные с роскошными, ухоженными бородами, говорили басом и громко кашляли, чем внушали к себе уважение; морща лбы, они брали из квадратных серебряных табакерок табак, скручивали цигарки и, вставив их в мундштуки из пожелтевшей слоновой кости, пускали густые клубы дыма. Когда игра достигала наивысшего накала, лбы их морщились еще больше, а губы, прихватив кончик уса, а то и целый клок бороды, сжимались еще теснее; напряженная сосредоточенность время от времени разряжалась бормотанием — бу-бу-бу-бу-бу! — похожим на пыхтенье поднимающейся в гору «кукушки» или корабельного мотора, когда его запускают, что говорило о перегрузке поршней в их мозговом механизме. Когда солнце склонялось к западу и косая тень от колоннады муниципалитета занимала половину площади, как бы увлекая за собою здание, Фуратто хлопал ладонью по колену, два-три раза зевал, широко открывая рот, и выдыхал: «О святый боже, святый боже!» Потом платил за кофе и шел к церкви Святого Рока, где его ждал черный больничный драндулет с тощей лошаденкой в рыжих пежинах и с одноглазым кучером. Однажды под вечер доктор Пивчевич, проводив невесту после прогулки, наблюдал за ним из подъезда: выпрямившись на неудобном сиденье с отвесной спинкой, с зеленоватым отсветом суконной обивки на худом лице, с заострившимися скулами и устало опущенными веками, Ловро показался ему человеком, возвращающимся с собственных похорон.