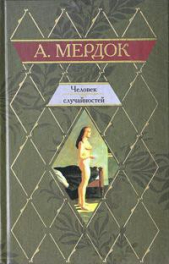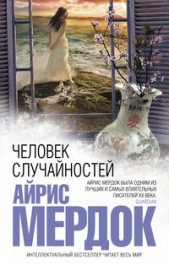О приятных и праведных

О приятных и праведных читать книгу онлайн
Айрис Мёрдок (1919–1999) — классик английской литературы XX века, удостоенная звания «Дама Британской Империи», автор философских сочинений, пьес, стихов и великолепных романов. Каждое ее произведение — шедевр, образец тончайшего психологизма, мудрой иронии и блистательной, кристально прозрачной формы. Романы Айрис Мёрдок шесть раз номинировались на «Букер», переведены на 26 языков, многие из них экранизированы.
В основе романа «О приятных и праведных» лежит расследование самоубийства одного из служащих Министерства внутренних дел, совершенное прямо в служебном кабинете. Шантаж и супружеская неверность, черная магия и роковая женщина-вамп, предательство и преступление, сложные хитросплетения человеческих отношений, сопряженные с захватывающими приключениями, романтическими и опасными, составляют канву повествования. Блистательные диалоги, неожиданные повороты сюжета, глубокие и тонкие психологические портреты героев, великолепная проза — все это позволяет с полным основанием отнести роман «О приятных и праведных» к лучшим образцам творчества Айрис Мёрдок.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Строго говоря, Джон и Джессика по-настоящему никогда не понимали друг друга, и повинен был в том главным образом Джон. Будь он мудрее, имей кураж, которым из щепетильности не обладал, он взялся бы за девушку твердой рукой, обращаясь с ней как со своей ученицей или воспитанницей. Тем более что Джессика только мечтала бы, чтобы Джон ею руководил. Она, понятно, не знала, какого именно жаждет руководства, — просто, по природе своей любви, склонна была считать, что он умен и содержателен, а она — дурочка и пустышка. Джон со своей стороны тоже угадывал в ней эту жажду, но инстинктивно опасался ее и не желал видеть себя в роли наставника. Тщательно избегал «оказывать влияние» на свою молоденькую и ныне столь послушную любовницу. Едва лишь ощутив, как велика его власть над нею, он тотчас закрыл на это глаза, куда серьезнее греша неискренностью, чем при проявлении эстетической всеядности, в которой уличала его Джессика. Это его отрицание своей власти было ошибкой. Джону следовало найти в себе мужество руководить Джессикой. Тогда между ними образовалась бы почва для более полноценного общения, в котором Дьюкейну неизбежно пришлось бы раскрыться перед девушкой. А так он отстранился, дабы не теснить ее, предоставить ей пространство для роста; но Джессика оказалась неспособна расти и, не понимая его, лишь боготворила с разделяющего их расстояния. Меж тем как сама оставалась почти полностью скрыта от него за словом «художник», связанным для Джона с общепринятым представлением о том, что это такое, — представлением, которому он положил Джессике соответствовать, не подозревая, что встретил в ней существо новой и совершенно иной породы.
Мне не вынести эту боль, думала Джессика, он должен избавить меня от нее. Все это лишь наваждение, дурной сон, — этого не может быть! Когда мы перестали быть любовниками, я считала, что, значит, останусь в его жизни навсегда; я это приняла, прошла через это, потому что так сильно его любила, хотела быть для него тем, что ему нужно. И он ведь позволял мне любить себя, — должно быть, это доставляло ему радость. Не может он взять и уйти от меня сейчас, это невозможно, это какая-то дикая ошибка…
Летнее лондонское солнце заливало комнату послеполуденным нещадным зноем; в светлом мареве фигура Джона терялась за пеленой пыльного света, казалась бесплотной, как будто его слова произносил какой-то неживой манекен, а настоящий Джон слился воедино с ее измученным телом.
Дьюкейн надолго замолчал, глядя в окно.
— Обещай мне, что ты еще придешь, — сказала Джессика. — Обещай, — или я умру.
Дьюкейн обернулся, пригнув голову от света.
— Это бесполезно, — проговорил он глухим, тусклым голосом. — Будет лучше, если я сейчас уйду. Я напишу тебе.
— То есть ты больше не придешь?
— В этом нет смысла, Джессика.
— Ты что, уходишь от меня, другими словами?
— Я буду тебе писать…
— Ты хочешь сказать, что прямо сейчас уйдешь и больше не вернешься?
— Боже ты мой… Да, я это хочу сказать.
Джессика испустила вопль…
…Она лежала на спине; рядом, зарывшись лицом в ее плечо, вытянулся на кровати Джон Дьюкейн, его сухие, прохладные волосы касались ее щеки. Руки Джессики, блуждая по темной ткани его пиджака, нашли друг друга и соединились, заключив его в крепкое объятье. Сплетя пальцы у него на спине, она глубоко вздохнула, устремив взгляд на потолок, расплывчатый и испещренный пятнами, объемный под золотистыми косыми лучами вечернего солнца; золотистый свет лился ей в глаза, широкие и бездонные, как озера, до краев заполненные покоем. Ибо мучительная боль ушла, пропала бесследно, и Джессика обмякла телом и душой от блаженства, что боли больше нет.
Глава десятая
Что-то грохнуло наверху, и следом послышался жалобный протяжный возглас.
Мэри виновато оторвалась от журнала «Летающие тарелки», принадлежащего Генриетте, и, бросив его обратно на стол, кинулась через две ступеньки из холла вверх по лестнице.
Сцена, которую она застала у Тео, примерно соответствовала ее ожиданиям. Тео, с глуповатым выражением лица, сидел в постели, обхватив руками Минго. Кейси, плача, пыталась вытащить из кармана шаровар носовой платок. Чайный поднос Тео лежал на полу, а на нем и вокруг него в беспорядке валялись черепки фаянсовой посуды, остатки бутербродов и ошметки торта. Ковер не пострадал, поскольку пол в этой комнате был постоянно завален старыми газетами вперемешку с предметами мужского белья, и пролитый чай успел впитаться в этот многослойный хлам.
— Ну хватит, Кейси, — сказала Мэри. — Подите вниз и ставьте снова чайник. Я здесь уберу. Ступайте же.
Кейси, не переставая причитать, удалилась.
— Что случилось? — спросила Мэри.
— Она сказала, что она старая заезженная кляча, я с нею согласился, а она в ответ швырнула на пол поднос.
— Вечно вы, Тео, поддеваете Кейси, так нельзя, это просто жестоко!
Минго тем временем соскочил с постели и принялся обследовать кавардак на полу. Пучки шерсти, торчащие по углам его пасти наподобие усов, обмахивали осколки разбитой посуды. Наморщив влажный нос, он выпятил нежно-розовую губу и грациозно ухватил тонкий ломтик хлеба с маслом.
— Только не подпускайте Минго к торту, — сказал Тео. — Он выглядит соблазнительно, и я определено намерен его съесть. Вы не положите его вот сюда?
Он протянул ей лист газеты.
Мэри подобрала несколько кусков покрупнее и положила на газету. Затем, морща, по примеру Минго, нос, принялась собирать на поднос останки еды и посуды. В комнате Тео, где кому бы то ни было редко разрешалось наводить порядок, попахивало лекарствами и йодом и прочно установился застарелый запах пота. По утверждению двойняшек, этот тяжелый дух служил основой родственной близости между дядей Тео и Минго, и Мэри мало-помалу поверила в это, хотя, на ее взгляд, флюиды, исходящие от собако-человечьей пары, были скорее не физического, а духовного свойства.
Пес между тем, с сияющей мохнатой мордой, вновь очутился на кровати, обхваченный дядей Тео поперек живота, беспомощно держа на весу четыре лапы и сидя на хвосте, вибрирующем в тщетных усилиях повилять. Сиял и Тео, расплываясь и теплея всем лицом, что было трудно назвать улыбкой. Строго поглядывая на них, Мэри заключила, что Минго приобрел известное сходство с Тео — или, может быть, наоборот.
Дядя Тео вызывал у Мэри недоумение. Удивляло и полное отсутствие интереса к нему со стороны прочих домочадцев. Когда ей сообщили — так, будто это некий придаток к имени или званию, — что Тео покинул Индию при сомнительных обстоятельствах, Мэри — естественно, казалось бы, — спросила, каких обстоятельствах. Никто, похоже, не знал. Она сначала подумала, что вопрос сочли бестактным. Но потом пришла к заключению, что это просто никому не интересно. Странность состояла в том, что вызывал столь безразличное отношение к себе умышленно сам Тео, как бы распространяя излучение, нейтрализующее участие к нему со стороны других людей. Нечто вроде способности обращаться в невидимку — и в самом деле: порой казалось, что дядя Тео неразличим в буквальном смысле слова, как, например, когда кто-нибудь, обронив: «Там никого не было», спохватывался: «То есть нет, впрочем, — Тео был».
Что за причина побуждала дядю Тео пресекать проявления интереса к своей особе? У Мэри на этот счет имелись на выбор две противоположные теории. Одна, поверхностная и утешительная, — что дядя Тео так полон животной самодостаточности и скудоват умом, что просто не заслуживает особого внимания, как не заслуживает внимания паук у вас в углу. Он, правда, вел образ жизни больного человека — во всяком случае, проводил невероятное количество времени в постели, куда ему неизменно подавали завтрак и чай, а иногда — и ланч, и обед. Пространно рассуждал о населяющих его организм бациллах, которых именовал «мои вирусы», но в то, что у дяди Тео действительно какое-то определенное, не мнимое заболевание, никто не верил. И хоть бывал он подчас остер на язык и временами мрачен, хандра его чуть отдавала балаганом, что мешало принимать ее всерьез. Кроме того, он обладал незаурядным даром расслабляться — в нем ощущалось полное отсутствие напряжения, магнетизма. Этим налетом пустой и вялой развинченности и объяснялось, по-видимому, равнодушие к нему окружающих. Интересоваться было попросту нечем.