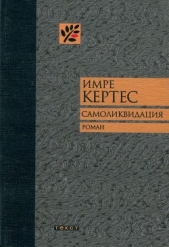Кадиш по нерожденному ребенку

Кадиш по нерожденному ребенку читать книгу онлайн
Кадиш по-еврейски — это поминальная молитва. «Кадиш…» Кертеса — отчаянный монолог человека, потерявшего веру в людей, в Бога, в будущее… Рожать детей после всего этого — просто нелепо. «Нет!» — горько восклицает герой повести, узнав, что его жена мечтает о ребенке. Это короткое «Нет!» — самое страшное, что может сказать любимой женщине мужчина. Ведь если человек отказывается от одного из основных предназначений — продолжения рода, это означает, что впереди — конец цивилизации, конец культуры, обрыв, черная тьма.
Многие писатели пытались и еще будут пытаться подвести итоги XX века с его трагизмом и взлетами человеческого духа, итоги века, показавшего людям, что такое Холокост. И так, как это сделал Имре Кертес, не смог, кажется, сделать пока никто. И недаром ему была присуждена Нобелевская премия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Нет!» — сказал я сразу, без колебаний и почти инстинктивно, ибо стало уже как бы вполне естественным, что наши инстинкты действуют против наших же инстинктов, что в нас живут, можно сказать, некие антиинстинкты, которые действуют вместо инстинктов, даже в их качестве; да, вот за это дурацкое многословие, за мое добровольное, беспричинное (хотя причин у меня множество, и некоторые из них я уже, если не ошибаюсь, приводил) унижение я и хотел отыграться на докторе Облате, то есть на докторе философских наук Облате, когда изобразил его посреди умирающего букового (или пускай липового) леса так, как изобразил, хотя и плоская, блином, кепчонка, и просторный реглан, так же как и узенькие белесые глазки-щелки, и большое рыхлое лицо, которое напоминает поднявшееся тесто, — все это на сто процентов соответствует действительности, тут я отступать не намерен. Дело лишь в том, что все это можно было бы описать и по-другому, более спокойно, более благодушно, скажу больше: может быть, даже с любовью; боюсь, однако, теперь я уже ничего не способен описывать иначе, кроме как обмакивая перо в сарказм, в иронию, что, возможно, и сообщает моим текстам некоторую юмористическую окраску (об этом судить тем, кто их читает), но все равно в определенном смысле связывает мне руки: едва я соберусь написать некоторые слова, перо мое словно бы натыкается на неодолимое препятствие и из-под него появляются слова совсем другие, слова, которые напрочь исключают всякое благодушие — просто, может быть, потому, что, как я подозреваю, никакой любви к ближнему во мне нет; но — Господи Боже! — кого мне любить из ближних? и за что? Что же касается доктора Облата, то он со мной говорил вполне благожелательно, настолько благожелательно, что некоторые его замечания, особенно яркие, я — раз уж они пробудили мое внимание — запомнил и буду помнить долго (чуть не сказал: до гробовой доски). Он сказал, что детей у него нет, и вообще нет ни одного близкого человека, только быстро стареющая жена, которую терзают возрастные проблемы; по крайней мере, так я понял, потому что сам философ выражался гораздо более туманно, или, я бы сказал, гораздо более тактично, предоставляя мне понимать то, что я хочу понимать; и я, хотя совсем этого не хотел, все-таки его понял, конечно. И что характерно, продолжал доктор Облат, обстоятельство это, то есть отсутствие детей, стало беспокоить его, собственно, лишь в последнее время, зато — все чаще; вот и сейчас, гуляя в этом полудохлом лесу, он размышлял все о том же и не удержался, чтобы не высказать свои мысли вслух, ведь есть все основания предполагать, что, поскольку он тоже стареет, некоторые возможности, в том числе возможность стать отцом, мало-помалу превращаются в возможности чисто гипотетические, а то и вообще перестают быть возможностями, и вот об этом-то он, собственно, и думает в последнее время так часто, причем, сказал он, думает «как об упущении». Тут доктор Облат даже остановился; дело в том, что мы с ним уже какое-то время неспешно шагали по тропинке, два общественных существа, двое беседующих мужчин на фоне унылого леса и опавшей листвы, две грустных кляксы на полотне пейзажиста, две кляксы, которые в самой основе подрывают (никогда, может быть, и не существовавшую) гармонию природы; не помню только, я ли увязался за Облатом или он за мной, но не будем делать из этого проблему, затрагивающую чье-либо тщеславие: да, да, разумеется, это я увязался за доктором Облатом, чтобы, наверное, поскорее от него отвязаться, ведь так я в любой подходящий момент мог бы повернуть назад; итак, доктор Облат остановился посреди тропинки, и с его меланхолически благодушным лицом, напоминающим поднявшееся, кое-где уже начинающее вытекать за край квашни тесто, произошла некоторая загадочная метаморфоза: оно едва ли не напряглось, голова вместе с молодцевато сдвинутой набекрень, озорной кепкой откинулась назад, а взгляд устремился к ветке дерева, вознесшейся над тропой, и, зацепившись за эту ветку, пару минут висел на ней, словно некий жалкий, обтрепанный, но и в обтрепанности своей готовый служить хозяину предмет одежды. И пока мы стояли так и молчали, я — в поле притяжения Облата, Облат — в поле притяжения дерева, у меня возникло чувство, что еще немного, и я стану свидетелем некоего, как можно предположить, конфиденциального откровения; так и случилось: доктор Облат наконец открыл рот и произнес: если он говорит, что то, что случилось, или, вернее, что как раз не случилось, ощущается им как упущение, то он имеет в виду не продолжение самого себя, это несколько абстрактное, хотя в то же время, скажем честно, все-таки весьма эффективное средство самоуспокоения, поскольку оно подразумевает, что ты как бы выполнил — то есть, и тут-то как раз дело в этом, не выполнил — свой личный и надличный долг на земле, то есть, сверх достижения цели самосохранения, обеспечил еще и продолжение данного бытия, а значит, все-таки самого себя, продолжение, воплощенное и приумноженное в потомках, то самое продолжение, которое (сверх самосохранения) является, можно сказать, трансцендентальной, хотя в то же время очень даже практической обязанностью каждого человека перед лицом жизни, чтобы не чувствовать себя неполноценным, ненужным, в конечном счете импотентом; не имеет он в виду и грозящую перспективу одинокой, лишенной опоры старости; нет, на самом деле он боится другого: «эмоционального обызвествления», — вот так, буквально в этих словах, высказал свой взгляд на проблему доктор Облат, прежде чем вновь двинуться по тропе к нашей базе, к дому отдыха (как могло кому-нибудь показаться), на самом же деле — теперь-то я это знал — к эмоциональному обызвествлению. И на этом скорбном его пути я присоединился к нему, стал его верным спутником, в должной мере потрясенный его потрясающей формулировкой, хотя и в меньшей мере разделяя его страх, каковой, боюсь (вернее сказать, надеюсь; даже — точно уверен), есть страх сиюминутный, хотя и как таковой — и в такой же степени — страх священный, а потому как бы долженствующий быть обмакнутым, словно в чашу со святой водой, в вечность; ибо когда оно, эмоциональное обызвествление, наступит, мы ведь не будем уже бояться его, мы даже не вспомним, что оно было чем-то таким, чего мы когда-то боялись: ведь оно уже пересилило нас, мы сидим в нем по горло, оно принадлежит нам и мы принадлежим ему. Ибо ведь оно — тоже всего лишь взмах заступом в процессе рытья ямы, могильной ямы, которую я рою в воздухе (потому что там просторнее будет лежать); и, вероятно, поэтому, говорю я (говорю не философу, а про себя), эмоционального обызвествления не бояться надо — его надо принимать, а то и прямо-таки приветствовать, словно протянутую нам откуда-то руку помощи, которая, правда, помогает нам приблизиться к той самой яме, но важно, что — помогает; ибо, господин Каппус, этот мир не враждебен Вам, и если в нем есть и опасности, то надо попытаться полюбить их; хотя, снова говорю я, опять-таки не к философу обращаясь и не к господину Каппусу, этому счастливчику, который, должно быть, столько писем получил от Райнера Марии Рильке, нет, это я опять же говорю про себя — хотя я уже исключительно эти опасности и люблю, но думаю, это все-таки не совсем в порядке вещей, в этом тоже есть какая-то фальшь, которая режет мне ухо: так иной дирижер сразу расслышит в звучании оркестра фальшь, если, скажем, английский рожок, скажем, из-за опечатки в нотах издаст звук на полтона выше, чем надо. И эту фальшь я беспрестанно слышу не только в себе, но и вокруг себя, в своем узком и в своем широком, в своем, можно сказать, космическом окружении; так же как, например, здесь, на лоне этой, не вызывающей большого доверия природы, среди больных дубов (а может, буков), рядом с вонючим ручьем, под грязно-серым небом, просвечивающим сквозь чахоточные кроны, — в этом вот окружении, где, дорогой господин Каппус, мне при всем желании не удается уловить вдохновенный зов великой мысли: «быть Творцом, создавать, зачинать новую жизнь», мысли, которая, согласитесь, ничто без непрестанного и великого подтверждения и осуществления этой мысли на земле, ничто без тысячекратного «да», которое слышится от всех зверей и всей твари… Да, ибо, как бы нам ни отбивали к этому охоту (ограничусь, касаясь этой темы, таким вот мягким оборотом), все-таки втайне — ведь если мы молча, внимательно следим за своим кровообращением, за своими ночными кошмарами, то это ведь, собственно, и означает втайне (а я только так и способен ощутить тысячеголосую, всем и всеми исторгаемую гармонию), — мы все равно, неуклонно, незыблемо хотим жить, пускай такими обрюзгшими, такими угрюмыми, такими больными, да, даже такими, и даже если настолько не умеем и настолько невозможно жить… Вот почему — а также и потому еще, чтоб не увязнуть ненароком в этом сентиментальном настроении, в котором (как, кстати, едва ли не во всем прочем, по крайней мере во всем, в чем и я принимаю участие) я опять-таки ясно слышал фальшивый английский рожок, — вот почему я поставил перед философом очень даже подходящие ему по специальности, то есть философские, хотя при этом, пожалуй, напрочь лишенные философской мудрости вопросы: а почему же так получилось? откуда вся эта дряхлость? где и когда мы окончательно «просрали наши права»? почему так неумолимо и так бесповоротно невозможно больше не знать того, что мы знаем? И, словно не зная того, что знаю, я говорил и говорил, подгоняемый необоримой потребностью говорить, словно каким-то страхом, словно неким horror vacui [1]; и на лице у доктора Облата опять появилось профессиональное выражение философа, профессиональное выражение венгерского среднего интеллигента со Среднегорья, интеллигента среднего достатка, среднего возраста, среднего роста, исповедующего средние взгляды и располагающего средними перспективами, и в морщинах, побежавших от его циничной, счастливой улыбки, совсем утонули щелочки его глаз. Да и в голосе его, в этом хорошо смазанном, привыкшем к обинякам и, собственно, весьма самоуверенном голосе, который перед этим лишь на краткое мгновение, под воздействием угрожающей близости насыщенных живой жизнью вещей, выбился из наезженной колеи, тут же вновь появилась беспристрастность, даже объективность; так мы с ним и шествовали домой, двое интеллигентов среднего возраста, исповедующих средние взгляды, неплохо, собственно, одетых, неплохо питающихся, неплохо сохранившихся, двое интеллигентов, выживших (пускай выживших каждый по-своему) после множества катастроф, два человека, которые все еще живы, два полуживых человека, и говорили о том, о чем еще возможно — хотя и абсолютно излишне — говорить. Мирно и со скукой мы с ним поговорили о том, почему в этом мире невозможно жить; о том, что само существование жизни есть, собственно говоря, невежество: ведь если брать жизнь в высоком смысле, если смотреть на нее под высоким углом зрения, то ее, жизни, вообще не должно бы быть, просто хотя бы потому, что определенные вещи произошли и происшедшие вещи происходят снова и снова, и этим пока можно удовлетвориться, для причины этого хватит с лихвой; не говоря уж о том, что мудрые головы давным-давно уже запретили бытию быть. Всплыла там и еще одна проблема (упомнить всего я, конечно, не в состоянии, ведь в том разговоре нашем, в чистом виде порожденном замешательством и случайным стечением обстоятельств, звенели, или, скорее, звякали сотни и сотни схожих разговоров, подобно тому, как в одной лишь творческой мысли оживают тысячи забытых ночей любви и делают эту мысль возвышенной и величавой, — словом, всего упомнить я, честное слово, не могу, но, кажется, всплыла там еще одна проблема): не допустить ли возможность, что тотальное, кажущееся бессознательным усилие бытия, направленное на то, чтобы быть, есть отнюдь не признак некой непредубежденной наивности (утверждать подобное сейчас было бы все же преувеличением, да и вообще, собственно, невозможно), — напротив, это, скорее всего, симптом того, что оно, бытие, только так, то есть бессознательно, и может продолжаться, уж коли ему нужно продолжаться во что бы то ни стало. И в том случае, если продолжить бытие удается, каковая удача возможна, конечно, только на некой более высокой ступени бытия (доктор Облат), на что, однако (мы с ним дуэтом), не только не указывают никакие, хотя бы и самые косвенные признаки, но, напротив, выявляется как раз противоположная тенденция, а именно: провал в бессознательное… Далее: осознанная бессознательность, по всей очевидности, чревата синдромами шизофрении… И далее: в свете сказанного, переживанию (я) и реализации (доктор Облат) некоего состояния мира, к чему, собственно, всегда стремится любое состояние мира, при отсутствии веры, культуры и прочих праздничных средств, сегодня способствует разве что катастрофа… И так далее и так далее, дули и дули мы, фальшивя, в английский рожок; а тем временем на кроны неподвижных, как бы оцепеневших деревьев опустилась легкая, синяя предвечерняя дымка, в глубине которой, словно твердое ядро, скрывалась более плотная масса дома отдыха, где ждали нас столы, накрытые к ужину, и предвкушение звона столовых приборов и бокалов, и нарастающий гул застольных бесед, но и в этом голом факте тоже можно было расслышать, грустное и фальшивое, звучание английского рожка; к тому же я никак не мог прогнать мысль, что в конце концов я так и не повернул назад, чтобы избавиться от доктора Облата, до конца, словно околдованный, оставался с ним, понуждаемый к этому, может быть, собственной пустотой, которую прикрывал навязчивой потребностью говорить, и еще Бог знает чем понуждаемый, но наверняка и угрызениями совести (отвращением к себе) из-за этой пустоты; оставался с ним, чтобы не слышать, не видеть, не говорить то, что должен был бы говорить и даже, может быть, писать, кто знает? Да, и за все это наступившая ночь наказала — или наградила? — меня, принеся атмосферный фронт с внезапно налетевшим штормовым ветром, оглушительными раскатами грома и неистовыми, хлесткими, ослепительными молниями, которые, вспарывая небо от края до края, вспыхивали и медленно гасли, образуя причудливые иероглифы, а то и сухие, краткие, четко — по крайней мере для меня четко — читаемые буквы, и все они означали