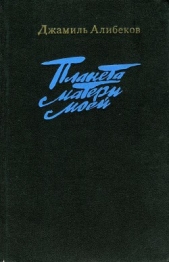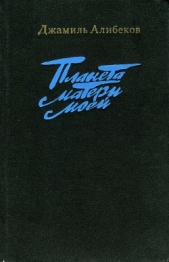Большая грудь, широкий зад
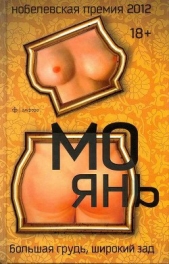
Большая грудь, широкий зад читать книгу онлайн
«Большая грудь, широкий зад», главное произведение выдающегося китайского романиста наших дней Мо Яня (род. 1955), лауреата Нобелевской премии 2012 года, являет собой грандиозное летописание китайской истории двадцатого века. При всём ужасе и натурализме происходящего этот роман — яркая, изящная фреска, все персонажи которой имеют символическое значение.
Творчество выдающегося китайского писателя современности Мо Яня (род. 1955) получило признание во всём мире, и в 2012 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.
Это несомненно один из самых креативных и наиболее плодовитых китайских писателей, секрет успеха которого в претворении грубого и земного в нечто утончённое, позволяющее испытать истинный восторг по прочтении его произведений.
Мо Янь настолько китайский писатель, настолько воплощает в своём творчестве традиции классического китайского романа и при этом настолько умело, талантливо и органично сочетает это с современными тенденциями мировой литературы, что в результате мир получил уникального романиста — уникального и в том, что касается выбора тем, и в манере претворения авторского замысла. Мо Янь мастерски владеет различными формами повествования, наполняя их оригинальной образностью и вплетая в них пласты мифологичности, сказовости, китайского фольклора, мистики с добавлением гротеска.
«Большая грудь, широкий зад» являет собой грандиозное летописание китайской истории двадцатого века. При всём ужасе и натурализме происходящего это яркая, изящная фреска, все персонажи которой имеют символическое значение.
История, которую переживает народ, отличается от официальной истории. А литература не история, это художественный способ объяснить какие-то вещи.
Мо Янь
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Той голодной весной ветер с юга, врывавшийся в проулок, приносил тошнотворный запах трупов, разлагающихся средь высохшей травы. Ты выжила только благодаря матушке, точнее — содержимому её желудка, которое она извергала, чтобы накормить тебя.
На мельнице семьи Сыма народная коммуна подрядила группу женщин крутить жернова, чтобы снабжать мукой рабочих на строительстве большого водохранилища Сяшань. Охранником на мельнице был некий Ма Бан. Бывший военный, инвалид с серебристой сединой в волосах, румяный и гладкий, он стоял у входа с плетью в руке, когда все приходили на работу, а потом расхаживал вокруг. Женщины с притворными улыбочками старались умаслить его: «Ах, Ма Бан, Ма Бан, у тебя душа бодхисатвы». — «Никак нет, — отвечал он. — Душа бодхисатвы — это не про меня. Я человек трезвый, взгляд у меня острый, и пусть только кто попробует стянуть зерно, подобно вороватым ослам… Не взыщите тогда, что отведаете безжалостной плётки Ма Бана». Постаревшая вдова Цуй прижалась к его спине потерявшей упругость грудью. «Дядюшка Ма, ты у нас просто властитель местный! Пойдём-ка вон туда, в стойло, нужно кое-что срочно сказать тебе». Когда-то вдова была любовницей Сыма Ку, а нынче пыталась подъехать к Ма Бану, своим телом ублажить злодея. Воспользовавшись этим, женщины стали хватать горох и пшеницу, набивать карманы, в носки, даже в штаны прятали. Неужто всё это могло ускользнуть от зорких глаз Ма Бана! В конце работы он вытряс из них всё, что они в себя понапихали, и плётка яростно загуляла по спинам: «Воришки! Я вам покажу воровать!» И каждый удар оставлял кровавый рубец. Женщины проплакали несколько дней подряд, на коленях перед ним стояли. Но даже жертва вдовы Цуй оказалась напрасной, Ма Бан был непреклонен. «Есть общественное, и есть личное, — говорил он, — и толковать закон в пользу личного я не собираюсь». Пронести что-нибудь женщины больше даже не пытались. Проглотить что-то тайком ещё можно было, и то лишь когда Ма Бан задрёмывал.
Попадался маш [281] — глотали маш, попадался гаолян — ели гаолян, гречиха — так гречиху. Даже жевать при этом боялись: чавканье казалось оглушительно громким. А заглатывать непрожёванное тяжелее, чем есть траву да мякину. И на кой ляд этим двум злыдням из семьи Сыма понадобились такие огромные жёрнова? Каждый как гора. Кляня их, женщины сгибались в три погибели и с грохотом тянули эти громадины. Пот катил градом, урчащие и вздувшиеся животы полны газов, а с этим Ма Баном даже выпустить их боязно. Нюх у него как у ищейки, сразу определит по запаху, кто что тайком употребил. Сыплется мука, будто засохшие снежинки — жёлтые, красные, — а среди этого разноцветного снега стынут материнские слёзы. Натёртые плечи покрываются гноящейся коркой, на ногах мозоли, как на ослиных копытах, а сами-то женщины чахлые, словно засохшие деревца с тонюсенькими веточками. Но по тем временам это была завидная работа. «Вы меня, бабоньки, не корите, — говорил Ма Бан, — не по совести это. Вон, в Каошаньтунь на мельнице все женщины в повязках-лунцзуй [282] ходят».
Да уж, кабы не эта работа вместо ослов на мельнице, ты, восьмая сестрёнка, давно бы умерла с голоду, и топиться в реке не пришлось бы. И Попугая Ханя не было бы в живых, и никакого птицеводческого центра «Дунфан» не появилось бы.
Никогда в жизни не воровавшая матушка тоже стала таскать зерно, как мышь. В тот день стояла духота, и матушку, когда она вернулась домой, вырвало. Ночью прошёл сильный дождь, а на рассвете она увидела, что Попугай Хань выбирает из блевотины горошины и ест. И тут её осенило. С того дня перед окончанием работы она, как безумная, в царившем на мельнице полумраке заглатывала зерно. А потом, дома, из тяжёлого, битком набитого желудка она с шумом изрыгала его в деревянное корыто. Воистину зерно всегда было драгоценностью, велика во все века и материнская любовь. Но нигде в мире ещё так не воровали, и нарушающую закон матушку окружал ореол святости. Всякий раз, когда я вспоминаю, как она стоит на коленях перед корытом и извергает из себя зерно, кровь у меня закипает и хочется совершить что-нибудь славное, чтобы отплатить ей за любовь и доброту. Жаль только, что у меня, Шангуань Цзиньтуна, мысли лишь на женские титьки и повёрнуты и болтаются вокруг них, как отливающий золотом медный колокольчик.
Ты очень переживала, восьмая сестрёнка, когда матушку выворачивало. Хоть и слепенькая, фигуру матушки ты видела яснее, чем я. «Мама, мама», — тихонько всхлипывала ты, и твоя гладкая головка торчала над чёрной стеной. Ты слышала, как постукивают эти зёрна, выплёскиваясь вместе с жидкостью, звонко и немелодично, словно картечь, пробивающая большую краснокожую редиску. Этой краснокожей редиской и было твоё сердце. Когда матушка сделала это в первый раз, ты ещё подумала, не заболела ли она. Ты вышла на ощупь во двор, встревоженно взывая: «Мама, мама, что с вами?» Не обращая на тебя внимания, матушка продолжала совать в горло палочки для еды, чтобы вызвать рвоту. Ты легонько постукивала её по спине слабенькими кулачками, чувствуя, что вся одежда на ней пропиталась холодным потом, а от тела исходит ужасный, тошнотворный запах крови. Глаза залило чем-то горячим, и ты тут же ясно представила её, бессильно скрючившуюся, словно креветка. Вот она, на коленях, ссутулившись, вцепилась в края корыта, и то напряжённо подаётся вперёд, то втягивает шею — величественное изваяние, ужасающее и удивительно прекрасное. В приступах рвоты матушкино тело то сжималось в слиток металла, то расползалось, как кучка грязи, и эти паршивые зёрнышки, как жемчужины, большие и маленькие, сыпались в корыто… Потом, когда при неярком свете звёзд, пробивавшемся под грушу, рвота прекращалась, матушка совала руку в корыто, набирала полную горсть — в тот день это был горох — и крепко сжимала. Потом медленно разжимала ладонь, и золотистые горошинки с плеском одна за другой неохотно падали обратно. Матушка раз за разом повторяла это движение, и запах от размешанной её шершавой рукой тепловатой жидкости вместе с прохладным духом гороха проникал в ноздри. Этот леденящий душу запах крови острой стрелой пронзал твоё сердечко, сестрёнка. Ты уже готова была разрыдаться, но вдруг будто увидела матушкино лицо, озарённое счастливой улыбкой, — оно походило на раскрывшийся под светом звёзд цветок подсолнуха. И тут прозвучал её срывающийся голос:
— Доченька, мы, матери, придумали, как вас спасти!
В тот вечер матушка промыла весь горох из корыта и под покровом ночи, чтобы никто не увидел дыма, сварила целый горшок горохового супа. Разнёсшийся запах разбудил Попугая Ханя.
— Бабуля, чем это так пахнет? — тёр он кулачками глаза. И уже уплетая суп, приговаривал: — Что это за вкуснятина, бабушка?
Ты, сестрёнка, тогда уже была взрослая, двадцать с лишним лет. Тебе было противно есть этот горох, но ты не выдержала искушения, ведь в твоём желудке так давно не было ничего подобного. Когда ты ела его в первый раз, тебе было невыносимо тяжело, но потом ты уже ни о чём не задумывалась.
С тех пор ты и ждала, когда матушка, вернувшись, будет извлекать из себя зерно, и боялась этого. Желудок матушки превратился в дорожный мешок. Вызывать рвоту было уже не нужно. Стоило лишь встать на колени перед корытом, нагнуть голову, и всё зерно выходило наружу. Попугай Хань поправился, у тебя, сестрёнка, под кожей тоже появился жирок, а вот матушка исхудала до крайности, её желудок уже ничего не удерживал.
В один прекрасный день заявился Ма Бан. От него исходил какой-то кислый запах, и ты, сестрёнка, по одному этому поняла, что человек он недобрый. Он стал приставать к тебе с вопросами: «Что это ты ешь, такая гладкая?» Ты замкнула рот, надёжно храня матушкин секрет. Ма Бан походил по двору, вынюхивая, и в конце концов ушёл не солоно хлебавши.
Ты рассказала обо всём матушке, добавив:
— Мама, не надо, не надо больше!