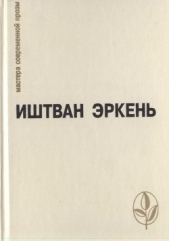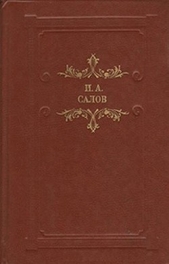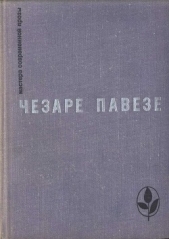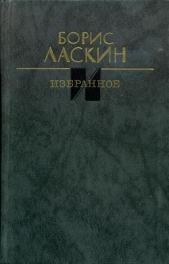Избранное
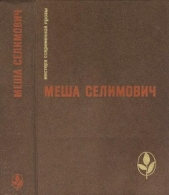
Избранное читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Осман обернулся.
— Хотел слушать наши песни — я пел. Хотел слушать нашу речь — я говорил. Что еще не знаю.
Рука еще звала, тихая, ослабшая.
Осман взял Шехагу за пальцы. Они задвигались. Снова о чем-то просили.
Осман бросил взгляд на меня.
Я кивнул головой: говори что-нибудь!
Тихо, придвинувшись к самому лицу Шехаги, которое покрывала все более безнадежная бледность, оставляя лишь возле сжатого рта синий круг, Осман Вук глухим от волнения голосом начал считать:
— Один, два, три, четыре, пять…
Что-то вроде облегчения пробежало по серым щекам, тень горькой радости легла на лицо умирающего, а из-под прикрытого века скатилась слеза. Он еще жил, еще держался за руку Османа, он еще жаждал человеческой речи, скрытой любви.
Неожиданно я понял все, дрожь пробежала по моему телу, душа содрогнулась. Осман Вук, этот пройдоха, игрок, убийца, совершал самое благородное дело своей жизни. Здесь, на чужбине, на пороге вечной неотвратимой чужбины, куда он отправится через несколько мгновений, Шехага вдруг почувствовал тягу к родному краю, его теплу, к человеческому голосу, что, постепенно затихая, ласкает его слух, не оставляя его одного перед лицом бесконечного одиночества, чтоб не было так глухо и пусто перед лицом бескрайней пустыни.
Ненависть его к родным местам и людям — это лишь обида. А когда надвигающаяся смерть оттеснила мысль о мести, сама собой проявилась его сущность, любовь к своему корню, тоска по людям.
Какие мысли, последние, мелькали в его гаснущем сознании? Какие картины? Радости, печали, может быть? Думал ли он о родном крае, из которого бежал, спасаясь от себя? Или ему виделись люди, которых он любил? Жалел ли он о том, что не жил иначе? А может, последними крохами сознания он ловил небо детства, которое мы никогда не забываем?
И все же любовь сильнее всего на свете.
Внезапно меня облил ледяной пот от мысли, молнией блеснувшей у меня в голове. А вдруг я ошибаюсь? Вдруг это последнее пожатие полумертвой руки — призыв к отмщению?
Нет, не хочу так думать, нет у меня права на все обесценивающее сомнение, ведь по моему требованию родная речь была последним, что улавливал его слабеющий слух. В свой предсмертный час он забыл про месть и вспомнил то, что любил, но таил от всех.
А может быть, он вспомнил это тогда, когда передал Осману свой наказ, успокоившись и уверившись, что долг будет возвращен сполна?
Я ничего не узнал, молчали оба — один мертвый, другой живой, но никому не доверяющий, а мне так хотелось знать правду, словно бы это открыло мне недоступные до тех пор тайны людские.
На моих глазах умирал могучий человек, убитый тоской, убитый ненавистью, а я как зачарованный думал только об одном: что было его последней мыслью — месть или любовь?
Будто от этого зависела вся моя жизнь.
Я решил, что Шехага думал о любви. Это менее похоже на правду, менее вероятно, но более благородно. И прекраснее: все наполняется смыслом. И смерть. И жизнь.
19. Крепость
Печально смотрел я на вечернюю звезду в чужой ночи, на чужой земле.
И, подавленный, думал:
На родину я возвращался, все изведав, и себя тоже.
Когда повеяло духом родной земли, я с трудом скрыл слезы.
Как любимой, шептал я взволнованные слова:
О том же я думал, обнимая Тияну, близость ее исцеляла меня от страха, запах ее освобождал меня от гнета чужбины.
Я не думал о несчастьях и бедах своей земли. Я думал о добрых людях, думал о добром родном небе. И может быть, еще и потому, что один несчастный человек всю жизнь таил свою любовь к нему.
Чужбина и загадочная смерть Шехаги разбередили мне душу. К тому же еще в дороге меня начала трясти лихорадка.
Я свалился в постель, как только вернулся. Тяжелая горячка разлучила меня с Тияной, с друзьями, со всем миром, с самим собой.
Мне чудилось, что я в старой каморке над пекарней, лежу в печи и горю огнем; голова разрывалась от наплыва болезненных кошмаров: мчались взбесившиеся лошади, распластываясь надо мной, из тьмы выходили маленькие искаженные фигурки моих товарищей по Хотину. Они были без рук, без ног, без головы, внезапно они начинали расти, превращаясь в страшных чудовищ. Из бескрайней пустоты багрового раскаленного пространства до меня доносились безумные крики ужаса, царящего в мире. Потом все приобретало свои обычные размеры, искаженные, но все же знакомые, как во сне; на своем огромном лбу я чувствовал маленькую руку и знал, что это рука Тияны, слышал ее шепот и смех Османа, видел, как сдвигаются их головы. Нет, кричал я, убью! Тяжелое забытье горячки сменилось мучительной усталостью и полным бессилием.
— Осман приходил? — спросил я Тияну.
— Да. Каждый день.
— Я слышал его смех.
— Знаешь, я и не думала, что он такой добрый человек.
Значит, приходил, это не было болезненным видением, горячечным бредом. А все прочее?
Это невероятно, мой воспаленный мозг в страхе все это выдумал! Невероятно! Но спросить я не решился.
И Махмуд приходил, однако его я не запомнил, потому что не боялся. На третий день, когда я пришел в себя, Махмуд сидел возле меня со слезами счастья на глазах.
— Слава аллаху, слава аллаху! — шептал он умиленно.
— Осман приходил? — спросил я его.
— Приходил. И Осман, и Молла Ибрагим, и моя жена — все приходили.
Он смотрел на меня то с укоризною, вспоминая о моем отъезде, то восторженно, радуясь моему выздоровлению. И зачем мне понадобилось странствовать по белу свету? Люди везде люди, дома́ везде дома́. А для человека главное — друзья. Ему было пусто и тяжело без меня, он выходил на дорогу, в поле, хотя знал, что нам еще не время возвращаться, но так ему было легче, как будто он становился ближе к нам, а когда я свалился в горячке, сидел у моей постели день и ночь. Надо было мне искать беду на чужой стороне, сердито выговаривал он мне. Разве здесь ее мало? Если бы я умер, думал он, что бы он стал делать? И что было бы с моей бедной женой, все глаза выплакавшей по моей милости? Они с Османом часами утешали ее и успокаивали. Конечно, ей легче, она молодая, красивая, тут же вышла бы замуж; ему пришлось бы хуже. Хорошего друга трудно найти.
«А за кого бы Тияна вышла? — продолжал я его мысль.— За Османа? Э, нет! Жаль, конечно, только ни за кого она не выйдет. Я живой, дома — дома и живой!»
О себе Махмуд сказал, что от службы отказывается: едва Османа дождался, чтоб сдать ему лабаз. Надоело сидеть на одном месте, словно ты дерево или камень! Да и ногам вредно, ему надо больше двигаться, и потом, он с людьми любит быть.
Что такое?
Смешной фантазер, он все же предпочитает необеспеченность и мечту обеспеченности и одиночеству. Его вдохновляли необыкновенные подвиги, а выпали на долю обыкновенные, скучные будни. Он, мечтой возносившийся к самым облакам, должен был кормить кошек и гонять мышей, он чувствовал себя обманутым, это было хуже, чем его прежняя убогая жизнь, позволявшая ему лелеять несбыточные надежды.
Теперь он собирался разводить канареек, дело это приятное, чистое, красивое и забавное, птицы любятся, поют себе и плодятся. А плодятся они так, что продажей птенцов вполне можно жить.
Тут он замолчал и нервно провел рукой по своему худому лицу.
— Что-то ты скрываешь,— сказал я.
— Что мне скрывать?
— Не знаю. Тебя спрашиваю.