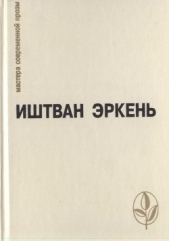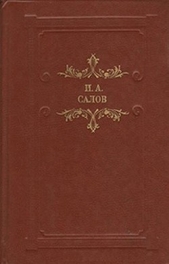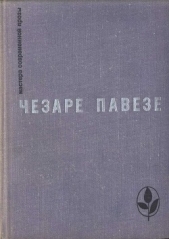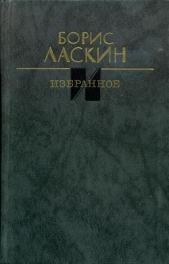Избранное
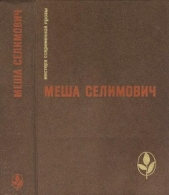
Избранное читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А он с какой стати?
— Ненавидит он их — всех! А с комендантом они приятели, на войне вместе были, один стариком, другой молодым. Теперь оба старики.
Знаменосец Мухарем! А бедняга Махмуд высох из-за поноса, без вины виноватый!
— А другие? В других он тоже ошибся?
— В тебе нет.
— Авдага опасен. И становится все опаснее.
— Знаю.
— Что будем делать?
— Уповать на бога.
— Плохо наше дело, если только на бога нам и осталось уповать.
Осман улыбнулся и дружески хлопнул меня по колену:
— Не так страшен черт, как его малюют.
И весело, без тени озабоченности пошел проверять, как работники увязывают шерсть.
Выходя, я видел, как Махмуд, разговаривая с Османом, грустно поглядел мне вслед, не смея спросить, о чем мы говорили. Он не выносит тайн, ни своих, ни чужих, но сильнее всего его мучает эта тайна, в которую он, ничего о ней не зная, влип без всякой вины.
Но что я мог сказать ему? Что он не виновен и Авдага напрасно его подозревает? Это он и сам знает, да толку от этого чуть. Сказать же ему, что он страдает за знаменосца Мухарема, мне и в голову не приходило. Это открытие могло вызвать в нем не гордость, а желание избавиться от поноса и скинуть со своей шеи сердара Авдагу, открыв ему имя настоящего виновника.
Что разумнее — освободить Махмуда от несправедливого обвинения или не освобождать? И вот снова от моего решения зависит, кому быть преступником — Махмуду или Мухарему? Избавишь Махмуда от муки, которую у него уже нет сил выносить,— погубишь другого бедолагу. Что лучше? Или что хуже? Если открыть Махмуду тайну, он не сумеет ее сохранить, сердар Авдага обеими руками ухватится за улику, за которой давно рыщет, и клубок начнет разматываться. Знаменосец умрет под пытками или признается. Один бог ведает, сколько людей погибнет. А так Махмуд связан с нами одной веревочкой, связан, правда, несправедливо, но опасность в этом случае меньше. Пусть остается все, как есть! Махмуд ничего не знает и потому не может ничего открыть. Все другое будет хуже.
Но и приняв такое решение, я не успокоился. Как ни было благоразумно мое решение, справедливым оно не было. Я обрекал невинного человека на страдания и, возможно, на гибель. Я утешал себя тем, что, если все выйдет наружу, я скажу о нем правду и таким образом спасу его хотя бы в последнюю минуту, но все равно чувство вины перед приятелем меня не покидало.
Нелегкое дело — решать судьбу людей. Не способен я к дележу справедливости, при котором всегда кто-то хоть ненамного, а окажется обделенным. Я никогда не испытывал желания быть судьей людям — справедливо тут никогда не рассудишь.
И все-таки жизнь вынудила меня взять на себя эту роль, и я чувствую себя прокаженным, виноватым и перед собой, и перед другими.
Смутило меня и поведение Османа, когда он услышал мой рассказ. Беззаботно расхохотался и предоставил все божьей воле. Легко ему уповать на божье милосердие, в которое он, кстати сказать, так же слабо верит, как и я, находясь в полной безопасности за широкой спиной Шехаги. Значит ли это, что всех нас он бросает на произвол судьбы? Трудно поверить в такую подлость, хотя от него всего можно ожидать. Но это было бы слишком большим легкомыслием с его стороны — ведь и ему, и Шехаге тоже не поздоровилось бы, если бы все открылось.
Почему же он так несерьезно отнесся к моему известию? Тем более что он и сам отдает себе отчет, насколько Авдага становится опасен.
Прошло три тяжелых дня. Тияне я ничего не говорил. Как и все прочие, я превратился в осажденную крепость, мрачную и безгласную, ворота которой были на тяжелом замке. К чему говорить Тияне? Напрасно волновать только. Стали бы вздыхать вместе — разве этим делу поможешь? Хоть ее надо пощадить.
Я, как водится, напускал на себя веселый и беспечный вид. И, как водится, обмануть мне ее не удалось. То ли тревога придавала моему смеху привкус горечи, то ли я просто не умею притворяться, но Тияна мигом учуяла, что я не такой, как всегда.
— Что с тобой? — озабоченно спросила она.
— Со мной? Ничего.
Сперва она поверила, но вечером взялась за меня снова:
— Что с тобой? Почему ты мне ничего не говоришь? Что ты скрываешь от меня?
— Ничего я не скрываю. Нечего мне скрывать.
— Может, ты полюбил другую? И, жалея меня, не хочешь признаться?
Женщины, кажется, все на свете готовы объяснять любовью.
Я горько рассмеялся. Имя моей новой любви — сердар Авдага!
— Что ты говоришь? Выкинь, пожалуйста, из головы эти мысли!
— Ты можешь смело мне сказать. Лучше знать наверняка, чем мучиться и сомневаться. Да и неудивительно, я так подурнела, разве я сама не понимаю?
— Похорошела ты, а не подурнела. И я никогда не любил тебя так, как сейчас,— сказал я взволнованно, потому что это была правда. Она — единственное мое убежище, но и ей грозит опасность. Что с ней будет, если меня заберут?
Она успокоилась, поверила.
— Что ж с тобой все-таки? Ведь что-то случилось, я вижу.
— Работы найти не могу. Бездельничаю, как шалопай какой-нибудь. Сколько можно так жить?
Она приняла это объяснение и стала бодро корить меня за малодушие, пытаясь уверить, что я наверняка скоро найду работу. Пока можно жить спокойно. На деньги, которые у нас есть и которые она тратит, пропуская сквозь самое частое сито, мы сможем прожить, если понадобится, год. С голоду, во всяком случае, не умрем. Мы молоды, здоровы, что еще надо? Деньги ее меньше всего беспокоят.
Конечно, беспокоить это ее беспокоит, но она храбрится, чтоб подбодрить и успокоить меня, не зная, что сейчас и для меня это последняя забота. Рану мою она не исцелила, но преданность ее меня тронула до глубины души. Она целебна сама по себе, прекрасна и дорога не меньше любви.
И тут-то, когда можно было уже ничего не говорить, я рассказал ей об Авдаге.
Тияна задумалась ненадолго, но, видно, в тот вечер она решила быть мужественной до конца. Она умалила мою вину ввиду грозившей мне опасности и наверняка возвела бы ее в заслугу, если бы за нее давали награду.
Оправдала она меня с легкостью.
— Ты же, по сути, не знаешь, что и было-то. Как ты можешь быть виноватым?
Довод не очень убедительный, но он помог мне заснуть спокойнее.
Разрешилось все совершенно неожиданно.
Спустя три дня после этого мучительного разговора сердара Авдагу убили. Убили под Даривой. Молва говорила, что его подстерег в глухом ущелье разбойник Бечир Тоска, когда тот под вечер возвращался от коменданта крепости.
Я узнал об этом утром от пекарей и, забыв про хлеб, побежал к Махмуду.
Он встретил меня, ошалевший от счастья и радостного возбуждения.
— Правда, правда! — захлебываясь, ответил он на мой вопрос.— Иду я утром и думаю, неужели и сегодня сердар припожалует, и вдруг навстречу мне столяр Абаз. «Слыхал,— говорит,— сердара Авдагу убили?» Я так и сел, хочу спросить, сказать что-нибудь, а слова произнести не могу, в горле клокочет — и все тут. А Абаз продолжает: «Убили его под Даривой из ружья; говорят, Бечир Тоска убил и ушел себе спокойненько в горы. Комендант как раз об эту пору слышал топот коня». Абаз, значит, говорит, а я слушаю и мало-помалу в себя прихожу, так и хочется засмеяться от радости, обнять его. Сын родился — я не так обрадовался! Помчался в лабаз, заперся там и давай ходить между мешками с зерном и тюками шерсти. Смеюсь, сам с собой разговариваю: «Нет его больше!» Только это и твержу: «Нет его больше!» Совсем ополоумел от счастья. Потом спохватился, сел и возблагодарил бога: «Аллах, благодарю тебя за то, что прикончил ты изверга рода человеческого! Давно я о тебе не вспоминал, прости, знаю, ты не злопамятный, как некоторые, ты увидел, как измывается надо мной этот палач, и пришел мне на помощь в самое время. Долгонько ты раскачивался! Запоздай ты чуть, и мне уж ничья помощь была бы не нужна, даже и твоя». Есть правда на земле, Ахмед!
— Я услышал в пекарне — ушам своим не поверил!
— Только хотел к тебе бежать, мол, с тебя причитается за добрую весть, а ты сам тут как тут. Ну да ладно, поздравляю тебя!