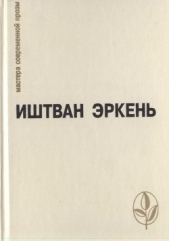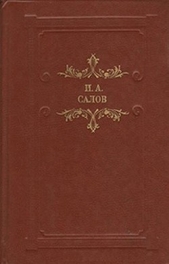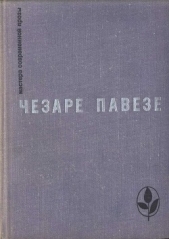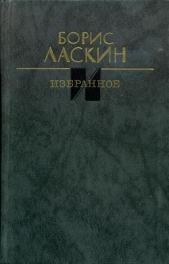Избранное
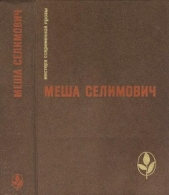
Избранное читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Меша Селимович
ИЗБРАННОЕ
Л. Аннинский
Человек — в крепости и вне ее
О месте, которое к концу 70-х годов занял Меша Селимович в югославской литературе, свидетельствует курьезный эпизод, описанный им самим в воспоминаниях. Одна солидная редакция попросила Селимовича принять корреспондента и рассказать о пройденном пути. В результате беседы появился текст, который Селимович по просьбе редакции завизировал. Полгода спустя он вдруг вспомнил об этом и удивился, что редакция не спешит с публикацией. Объяснение было дано с обезоруживающей готовностью: текст имеет быть опубликованным… после смерти писателя; масштаб его творчества таков, что «произвольные толкования» исключаются.
Селимович рассказал об этом эпизоде со смешанным чувством живого изумления и смиренной иронии: он отнюдь не думал о смерти и имел полное право изумляться; однако и для смирения были основания: масштаб общенациональной и европейской известности, павшей на него после шестидесяти, был действительно таков…
Точка, на которой повернулась писательская судьба Селимовича,— роман «Дервиш и смерть». Надо признать, что эта книга застала врасплох югославских критиков: ориентируясь на прежние работы Селимовича, они ждали чего-то уверенно профессионального, продиктованного скорее культурой и логикой, нежели страстью и талантом. «Дервиш и смерть» мгновенно обрушил все эти построения. Можно сделать нечто вроде каскадной записи признания и успеха: газетные и журнальные статьи, вскоре составившие увесистый том; непрерывные интервью, послания, обращенные к Селимовичу крупнейшими писателями Югославии; письма читателей, учуявших в «Дервише» бестселлер года; театральные и кинематографические инсценировки и отклики на эти инсценировки; переводы сразу на десяток языков; выставка скульптуры по мотивам романа, незамедлительно отправленная югославами в Париж; наконец, премии, которые одна за другой посыпались на автора «Дервиша»… Всего год прошел с момента, когда в октябре 1966 года в прессе появилась первая информация о выходе романа, до момента, когда его автор шутливо заявил в редакции одной газеты, устроившей с ним очередную встречу: «Хватит уже об этом Селимовиче!» Надо представить себе лицо почтенного академика, чей облик абсолютно не вязался с саморекламой и суетой, чтобы почувствовать неординарность шутки.
В реакции критики на появление «Дервиша» чаще всего встречалось труднопереводимое сербскохорватское слово «изненаджене», означающее вместе: изумление, потрясение, неожиданное открытие, откровение и сюрприз. Это было изумление роману, потом изумление единогласию, с которым югославская критика (а она благодушием не отличается) приняла роман, потом изумление тому обилию версий и толкований, какое он вызвал. Сначала о «Дервише» писали, что этот роман позволяет боснийско-герцеговинской прозе впервые встать на уровень прозы сербскохорватской. Потом стали писать, что этот роман — событие общеюгославское. Потом термин «книга года» сменился термином «книга десятилетия». И наконец из сугубо югославского контекста этот роман вышел в новую систему координат: теперь для его осмысления понадобились имена Вольтера и Фолкнера; у Селимовича находили ориентализованную традицию Кафки или хвалили его за то, что в романе и не пахнет Кафкой. «Дервиш» был вписан в мировой культурный контекст. Появившись в маленькой Боснии, он стал восприниматься как слово, сказанное югославской литературой в мировой дискуссии о человеке.
М. Селимович писал в советском журнале «Вопросы литературы» (1965, № 12, с. 150): «Для меня важен общественно обусловленный человек, но точно так же для меня важно и то, что в нем происходит, что он переживает, что делает его ареной драматического конфликта с самим собой и с окружающим миром… Я не верю в мистические силы ни внутри человека, ни вне его. Но я верю в сложность и внутреннее многообразие человека».
Именно ощущение неисчерпаемого в принципе интереса к человеку как духовному феномену, именно этот «мировой масштаб», поднимающийся над всеми прочими масштабами, действует на нас при чтении исповеди дервиша Ахмеда, шейха маленькой мусульманской текии, затерянной в заштатном Сараеве, затерянном в зажатой горами Боснии, затерянной в свою очередь на окраине беспросветной и бескрайней Оттоманской Порты, которая и сама уже начинает теряться в толще истории.
Обращение к этому материалу, подернутому дымкой исторической экзотики, было новостью и в плане темы, и в плане стиля. До тех пор при всей своей профессиональной разносторонности (проза — критика — сценарии — радиопередачи — эссе — публицистика) Селимович как прозаик брал лишь то, чему был свидетель, писал события, в которых участвовал: войну и ее изживание в душах. Книга рассказов, которой он дебютировал в 1951 году, называлась «Первая рота». Затем последовало десятилетнее молчание («у меня отрицали талант…»), затем — в 1961 году — роман «Тишина», затем роман «Туман и лунный свет». Новеллы 60-х годов Селимович собрал в книге «Чужая земля». Маленькая повесть, давшая название этой книге, считалась чуть ли не вершиной прозы Селимовича. Читатели, знакомые с повестью «Чужая земля» по журналу «Иностранная литература» (1969, № 3), вполне могут представить себе, что такое Селимович до «Дервиша». В рассказе о бегстве нескольких итальянских солдат-оккупантов через боснийские леса уже смутно прочитывается философская проблема выбора пути, терзаний совести, расплаты и возмездия и запоздалого раскаяния; ключевая фраза повести: «Нелегко быть человеком» — теперь, после «Дервиша», воспринимается как предвестие будущего романа, но в «Чужой земле» еще совершенно другой стилистический климат: та самая суховатая, экономная, сбалансированная, аккуратно распластанная на сюжете проза, о которой с удивлением вспоминали югославские критики, когда погрузились в причудливый, воспаленный мир романа «Дервиш и смерть».
Вчитываясь в исповедь дервиша Ахмеда, вы уже чисто читательски, непосредственно ощущаете необычность стиля. Не сразу можно уловить единый тон: здесь странно соединяются реалистическая плотность письма и философская символика, ирония и пафос. Борьбу разнородных начал в ткани текста вы чувствуете непрерывно; более того, эта стилистическая напряженность, разнозаряженность текста играет какую-то «умышленную» роль.
Странный рисунок прозы создается взаимодействием реальных и духовных элементов: «вещей» — и «парений», тяжелых резонов — и высших наитий. Любопытно, что во всех высказываниях Меши Селимовича о языке (в своих статьях он часто касается этой темы) обсуждается в основном антитеза: плотность — прозрачность. Селимович размышляет о борьбе философских абстракций с локальной замкнутостью местных речений. Он мечтает о преодолении суровости, крутости, твердости сербскохорватского языка, мечтает обрести прозрачность, гибкость, которых не замечаешь, как не замечаешь музыки в хорошем фильме. Это какая-то непрерывная борьба с плотью языка, желание освободиться от этой плоти… Отношение Селимовича к языку помогает разгадать секрет обаяния его романа: здесь борьба поверхностей и бездн, элементарных значений и глубинных смыслов несет решающую нагрузку. Проще говоря, шейх Ахмед Нуруддин предельно нормален, плотен, непроницаем, он делает вроде бы обыкновенные шаги… но по закону художественного чуда вокруг него простирается магнетическое, всепроницающее, неустранимое поле высшего смысла и далеких предчувствий. Перед нами и не описание событий, не отрешенное раздумье о них, и даже не переплетение событий с раздумьями о них. Это некое иное состояние, в котором медитация движется вперед как бы спрессованными впечатлениями от событий, а за очевидным нежеланием повествовать о событиях угадывается удесятеренная ужасом зоркость взгляда, прямо-таки выпотрашивающая из событий их смысл — подсмысл — подподсмысл… Зоркость чисто внешняя (то, как видит дервиш руки женщины или руки вбежавшего в текию человека, спасающегося от погони: одеревенелые, раскинутые, как на распятии, вжимающиеся в стену руки) — это не зоркость живописца: за деталями Селимович вскрывает психологические и философские состояния. В этой сфере Селимович становится поистине безжалостным. Оцепеневший дервиш не решается ни выдать беглеца преследователям, ни спрятать его, боится предать человека — и боится предать себя, ибо с преследователями он ведь тоже связан чем-то вроде добровольного обязательства. Полагая, что любое действие гибельно и заранее обречет его на поражение, дервиш на последней грани пытается спасти свою совесть, вообще не предпринимая ничего… или хотя бы прямо не становясь на сторону палача.
Отметим попутно, что философский роман Селимовича уже в этом первом пункте — в переживании того, что действие есть, так сказать, ущерб созерцанию,—выламывается не только из сферы той или иной локальной повествовательности, но из той локальной же системы духовных воззрений, на базе которых сам этот роман построен. Я имею в виду ислам. Скрупулезно точный в передаче реалий и состояний, характерных для мусульманской духовной традиции, Селимович видит в своем герое нечто большее… или нечто более всеобщее, нежели мучения шейха мевлевийской текии в XVII веке. Да, шейх Ахмед рефлектирует так, что вы все время чувствуете «мусульманскую окраску» его моральной тоски; самоуглубленность его, выдающая вековые традиции суфиев, построена не на изначальном ощущении свободы, а скорее на ощущении кары, которая придет с неотвратимостью закона; кружева рационалистического мышления, работающего здесь подобно вычислительной машине, в сочетании с ощущением «безостаточности» того, как личность вкована в цепь законов бытия, выдают исламский стиль мышления лучше, чем описания молитвы, диванханы и яшмака. И все-таки это роман не об исламе и не о Боснии XVII века, хотя исторические реалии тоже соблюдены скрупулезно. Перефразируя одного югославского критика, можно сказать: читая Селимовича, вы все время чувствуете магометанство, но чувствуете также, что не это существенно.
Художественный склад романа «Дервиш и смерть» — эта медитация в реалиях — находит своих предтеч и союзников в книгах, далеких от темы и традиций магометанства. В свое время на почве католической традиции возникла, например, родственная «Дервишу» исповедь Жоржа Бернаноса «Дневник сельского священника». В совершенно иной традиции возникает проза японца Кобо Абэ, этот японский вариант исповеди человека, цепенеющего перед выбором и бессильного вырваться из логики борьбы. Возвращаясь к Ахмеду Нуруддину, герою «Дервиша и смерти», заметим, что стоящие перед ним проблемы отнюдь не привязаны к Сараеву XVII века. Во всяком случае, для ислама той поры (в отличие от буддизма или даже от некоторых толкований христианства) проблема действия вряд ли была столь трагичной.
Роман Меши Селимовича, построенный на фундаменте далекой боснийской истории, обращен к трагизму XX века. Исходной точкой для этой одиссеи духа становится отрешение от мира — состояние, которое несколько веков назад казалось чуть ли не идеальным решением проблемы, а несколько десятилетий назад — абсурдом. Шейх Ахмед ненавидит мир за то, что в мире приходится действовать. Отрешение Ахмеда Нуруддина есть месть этому миру. Его брезгливость по отношению к суете вовсе не является чисто философской версией, которая могла бы опереться на теряющиеся в веках авторитеты (скажем, на аскезу суфиев или мироотрицание отцов христианской церкви). Нет, это состояние возникает в романе как духовная проблема, словно не имеющая прецедентов и продиктованная только что. Мироотрицание героя Селимовича есть живой ответ живого человека, оно дано здесь почти как импульсивное отшатывание от опасности, как живой импульс человека, на глазах которого стражники настигают беззащитного беглеца: «Если б они схватили его, стали бить в моем присутствии, жестокая расправа врезалась бы мне в память…»
Бегущий из мира страстей дервиш не похож на пустынножителя, нет, он выпрыгивает из самой схватки, он зажмуривается посреди сечи, где белые рубахи заливает красная кровь, он обнаруживает безысходность вмешательства, зная, что не вмешаться еще страшнее: это «врезалось бы мне в память».
Но лишь символическое мгновение шейх Ахмед Нуруддин выдерживает в своей спасительной духовной крепости. Арест брата разом возвращает его к миру реальному. Проклиная свою любовь, вынуждающую его просить за осужденного, проклиная себя, свою робость и свою судьбу, шейх идет спасать ближнего своего.
Начинается его мука, начинается трагедия действия.
Как только просишь о милости сильных мира сего, у них делаются невидящие глаза. Муселим, кади и муфтий — вот три ступени унижения, которые проходит дервиш, три встречи, три разговора, развернутые в тройную пытку. Муселим грубо и зловеще отказывает дервишу, почти угрожая ему. Сладкоголосый кади издевается над ним, цитируя Коран (этот разговор сделал бы честь иезуитам); дервиш бессилен пробить эту слащавую завесу. Больнее всего, однако, третий отказ — может быть, потому, что в муфтии еще сохранились следы простого человека: старик оживился, обрадовался, что его растормошили… и так же быстро заскучал, слушая дервиша. Стекленеющий взгляд муфтия страшнее всего именно потому, что в нем нет злоумысла — просто бесконечная скука заурядности.
Потом, позднее, дервиш отомстит всем троим. Муселим сбежит от него в страхе. Кади умрет под ногами толпы, освободит дервишу свое кресло. И даже муфтию дервиш отплатит тою же монетою — скучающим, безразличным взглядом. Но между мстящим героем финала и проклинающим себя просителем первой части романа — пропасть, которую этот человек как-то умудрился же перескочить… Судьба героя не была бы столь трагичной, если бы он, скажем, восстал против бесчеловечной власти,— это была бы, пожалуй, героическая эпопея вполне традиционного плана. Но дервиш, я говорил уже, наделен трагической остротой зрения. Он видит не только зло в людях, но видит также, что никто из людей не хочет быть злым. Они все, даже трое «всесильных», пытаются избежать осложнений и больше всего на свете хотят, чтобы проситель не вынуждал их к отказу. Человек не зол, но бесконечно слаб и далек от другого человека. Он вовсе не ищет случая предать и даже не тогда предает, когда его прямо вынуждают к этому. Он предает как-то по инерции, по невольной мягкости, он настолько размягчен страхом, что и сам не замечает, как предает. Человек — одуванчик, дунь — и нет его. Если бы хоть себе он мог казаться крепким! Если б он мог быть слепо счастливым, как слепо счастлив бывал в молодости сам дервиш, когда, будучи солдатом, врубался в строй врагов, покрываясь их и своей кровью,— тогда действие заменяло ему духовный стержень…
Тема и предмет философского исследования Меши Селимовича — человек, лишенный стержня, лишенный веры, оставшийся наедине со своей тленностью, «тварностью», бессилием, когда человека покидает пьянящий экстаз битвы и он ощущает всю гибельность охватившего его бездействия.
В остроте переживания этих «пограничных состояний» улавливается сложный психологический комплекс, связанный на югославской почве с понятием «боснийский характер». История Боснии поразительно контрастна (недаром она воплотилась у Селимовича в символической фигуре безногого силача). Это единственная югославская область, для которой турецкое иго обернулось почти поголовным омусульманиванием. До Хорватии турки не дошли, в Словении не удержались — регионы эти были отчасти прикрыты, охвачены австрийским влиянием, вместе с которым успел окрепнуть в этих краях и католический дух. В Сербии так же цепко держалась ортодоксия православная, там тоже не было вакуума; устояла и компактная Македония. Не устояла только Босния, расслабленная богумильскими ересями, расчлененная горными хребтами, отсеченная ими от моря. Была одна отдушина — Дубровник: там сохранялась торговая республика, что-то вроде Венеции или нашего Новгорода Великого,— недаром Дубровник и дубровчане становятся для Селимовича как бы полюсом свободы, вольной любви и духа странствий, своеобразным возрожденческим просветом, после которого еще тягостней ощущается атмосфера духовного ига, легшего на боснийцев.
Но именно Босния оказалась основным очагом борьбы югославов против гитлеровцев. Для Селимовича участие в этой патриотической борьбе стало главным событием жизни. Он родился за четыре года до «выстрела в Сараеве» (выстрел Гаврилы Принципа часто служит в Югославии чем-то вроде точки отсчета при исчислении нынешней исторической эры). Селимович был студентом-философом, потом учителем. С 1941 года стал бойцом первого призыва, из тех, кого потом назвали почтительным в Югославии словом первоборцы. В «Воспоминаниях» он описывает свой первый арест: его, молодого учителя, усташи ведут в тюрьму, он смотрит в глаза встречным, эти люди отлично его знают — один отвернулся, другой опустил голову. Рассказывает он и о потере брата. Коллизии «Дервиша и смерти» не философские изыскания отрешенного ума, здесь — сама жизнь…
Селимович воевал, был комиссаром. Знаток Боснии и ее людей, он сделался в этом смысле прямым преемником Иво Андрича. После «Дервиша и смерти» параллель Андрич — Селимович стала почти общим местом критических статей — с акцентом, разумеется, на контрасте этих писателей. Оба — драматические летописцы, но то, что у Андрича было развернутым, мощно раскинувшимся эпосом, у Селимовича выявилось в напряженном внутреннем борении духа, в философском искании смысла, в интенсивном самопознании личности.
В своем интенсивном анализе человека Меша Селимович идет, конечно, от Достоевского. Достоевского он называет «самым крупным романистом мира» и своим любимым писателем. По словам Селимовича, Достоевский — это больше чем литература, это — заново созданная реальность, убеждающая, что «писание есть поиск невозможного».
В каком же смысле? В том, что невозможно дойти до дна человеческой души? В том, что человеческое достоинство трагически утверждает себя в условиях, подчас совершенно невозможных для достоинства? И то и другое, и более всего — сам факт, что личность исчерпать невозможно.
В «Дервише и смерти» нет, конечно, той экстатической страсти, той последней свободы, той воли, за которую расплачиваются собой герои Достоевского. Здесь климат суше, логика жестче. Рационально-законнический дух Корана, довлеющего над героем Селимовича, все-таки окрашивает этот тип духовного сопротивления: здесь человек опутан необходимостью, он не вырывается на простор и, кажется, даже не ищет прорыва — отрешенный от жизни, он знает, что обречен, он почти по инерции ведет проигранную партию. Трагизм романа Селимовича (и его художественное открытие) не в том, что потерявший веру человек проигрывает, а в том, что потерявший веру человек начинает автоматически принимать навязываемые ему правила борьбы.
Нуруддина оживляет злоба, в которую изошла его поруганная любовь к брату. От равнодушия его излечивает ненависть к обидчикам. И он платит им, как умеет. Он устраивает такую провокацию, что его противники даже не знают, откуда свалилась напасть. Он посылает доносчика с доносом, провоцирует честных людей арестом честного человека, устраивает бунт толпы, глубоко презирая ее, ибо она слепо исполняет его волю,— о, если бы шейх Ахмед был способен на наивное счастье бунтаря! — но он понимает, что и сейчас под ногами растравленной им толпы гибнет чей-то невинный брат. Круг замыкается: и вот уже слабейший из слабых, смирнейший из смирных Ахмед Нуруддин занимает место затоптанного им противника, и вот он — кади, и вот, ставши частью и рычагом бездушного механизма насилия, он вынужден предать в руки палачей Хасана — своего лучшего друга…
Весь ужас тут в том, что с точки зрения рациональной должностной логики Хасан действительно виновен. Письмо ли дубровницкого купца, которого выручает Хасан, или, в конце концов, тот факт, что казненный брат Нуруддина действительно знал что-то лишнее,— это же, так сказать, факты. Приняв навязанную ему логику борьбы, Ахмед Нуруддин обнаруживает, что живой человек всегда чем-нибудь оказывается виноват перед бесчеловечной логикой. Эти два противника — абстрагированный от исторической «эмпирики» «естественный человек» и смиряющий его искусственный, им же, человеком, созданный абстрактный закон — всегда невольно оскорбляют друг друга, ибо сделаны они из одного материала — из фетишизации абстракций. С этого пункта: с того, что человек прячется в крепость абстрактных понятий, ныряет под крыло химеры,— начнется раздумье следующего романа Селимовича… Пока же идет до конца по своему крестному пути дервиш Ахмед Нуруддин, невольник действия. Признав свое бессилие, он жизнью расплачивается за это признание, за то, что принял правила бесчеловечной игры, за то, что разменял любовь на ненависть. Но и в этой немощной твари, в этом капитулировавшем ничтожестве на самой грани гибели вдруг вспыхивает искра, вспыхивает то, что сильнее его… Можно назвать это совестью или честью, гордостью или любовью, возмездием или раскаянием, но смысл один: есть в бессильной твари что-то, что сильнее твари.
Потом — смерть.
Он и не мог уйти от смерти, этот дервиш. Он был подрублен под самый корень, потому что он ведал, что творил. Можно сказать, что он слишком много знал… во всяком случае, его автор знал о нем все. Он, автор, знал о его конце. Два антипода сопровождали Нуруддина в романе: Исхак и Хасан, один — мятежный бунтарь, другой — вольный бродяга. Они могли бы быть счастливы, как бывал счастлив солдат Нуруддин, забывавшийся в схватке. Но философ, познавший бессилие человеческого одиночества, философ, решившийся пройти до конца этот путь, должен знать, каков конец.
Роман оставляет в нашем читательском сознании ощущение неодолимости человеческого духа. Это ощущение рождается не от судьбы дервиша (его судьба — тяжкий урок) и не от судьбы его друзей, более удачливых в борьбе и бунте (они едва маячат в сюжетной дали). Ощущение неодолимости человеческого духа возникает у нас от самого факта, что эта книга написана.
Успех романа «Дервиш и смерть» поставил Селимовича в положение по-своему трудное: теперь от него ждали чуда. Газета «Весник» процитировала читателя, обратившегося к автору «Дервиша»: «Вы в этой книге сказали все, и больше вам нечего сказать». Одновременно с другого конца страны в газету «Политика» пришло письмо: «В „Дервише“ вы сказали все. Что вы теперь напишете?»
Селимович написал «Крепость» (1970).
«Крепость» — продолжение «Дервиша». Это и облегчает, и затрудняет путь новой книги к читателю. Почему облегчает — понятно: интерес готов, он подогрет ожиданием. Но по той же причине и затрудняет: ожидания требовательны. Все-таки «Дервиша» писал автор, которого до той поры считали знатоком «боснийского характера», не более; «Крепость» пишет автор «Дервиша» — книги, только что прошедшей сквозь громы дискуссий, переведенной на дюжину языков и выдержавшей в Югославии много изданий.
Выходит книга, написанная в духе «Дервиша». Югославские критики, готовившиеся к еще одному ослепительному событию, грустнеют; их реакцию выявляет в газете «Борба» Петр Джаджич: «После „Дервиша“ мы ждали нового шедевра, но ведь Меша Селимович все-таки писатель, а не чудотворец…»
Конечно, если ждать перевода в мыслях после каждой новой книги крупного писателя, есть от чего прийти в уныние. Если же видеть в творчестве последовательный и необходимый духовный путь, то нет вещи более любопытной для анализа, чем «Крепость».
Как и в «Дервише», перед нами времена исторические. Действие романа «Крепость» происходит, судя по всему, вскоре после первой русско-турецкой войны; ряд признаков прямо указывает на недавнее поражение под Хотином, где боснийцы воевали против русских на стороне турок. Однако всей системой выразительных средств автор предостерегает нас от того, чтобы мы искали в романе то, что называется историческими картинами; конкретно-исторический элемент здесь нарочито ослаблен, затушеван, смазан — и тем не менее четко выверен. Вся художественная символика войны в романе имеет к действительности 1770-х годов весьма проблематичное касательство. Конечно, «окопы» были и в те годы (хоть сидели в них меньше), и все-таки окоп как художественный символ солдатского прозябания был неведом ни янычарам Молдаванчи-паши, ни гренадерам Румянцева, так что в роман Селимовича этот проклинаемый грязный окоп пришел, конечно, из эпохи первой мировой войны, равно как и общее ощущение «потерянности» военного поколения; конец XVIII века вообще не знал «потерянности»: его философы были устремлены к Разуму и Просвещению, его солдаты сражались за «веру» и «честь», его рефлексия была направлена на несовершенство вещей и несоответствие душ Абсолюту, но ни темы безысходного абсурда, ни ощущения отупляющей и бесцельной бойни, ни характерной для позднейшего европейского мышления проблематики «маленького человека», заброшенного в пучину событий, в коих он не волен, XVIII век не знал. Это все проблематика XX века, точнее, это философская символика XX века.
Человек, у которого есть опыт чтения, допустим, Фолкнера и Кобо Абэ, легко настроится на манеру Селимовича, ибо это все варианты философской прозы XX века, ориентированной на «смысл истории» и «судьбу человека». Свежими корнями, не говоря о более древних, эта проза уходит, наверное, к Стендалю. Петр Джаджич (он, кстати, и обозначил проблематику этой прозы шолоховской формулой — «судьба человека») выстраивает Селимовичу следующий «генеалогический» ряд: от Стендаля и Достоевского — к Мальро и Камю. Может быть, не стоит чрезмерно акцентировать чисто литературную «генеалогию», но что верно, то верно, в тексте «Крепости» действительно есть прямые реминисценции из этих писателей (молодые чиновники Порты, мечтающие обеспечить народу бездумное счастье и веселую сытость, вышли из «легенды о Великом Инквизиторе»; гусеницы, неведомо откуда приползающие и неведомо куда исчезающие, ползут по следам чумных крыс у Камю). Селимович не боится литературных параллелей, он сам дает читателю ключ к своей прозе, как бы наперед объявляя правила игры; надо его условия принять: перед нами не путешествие в историю, но путешествие в Смысл истории. Селимович идет в этом русле: перед нами проза иносказаний, проза-«парабола», проза-«притча». Вы следите не столько за действием, сколько за его символическим смыслом. Это проза странная для непривычного уха, но своеобразная прелесть в ней есть: удивительное сочетание лихорадочного беспокойства и какой-то заторможенной медлительности, кружение мысли, словно идущей по своим же следам. Проза Селимовича воспринимается так, словно и вы, и рассказчик погружены в воду, в пучину психологизма, в бездну «рефлексии»,— давление чудовищное, и все как будто затоплено чем-то вязким: призраки ли? реальность ли? Существенно лишь то, что погружено сюда, вглубь, что пропущено через сознание; а то, что на поверхности,— несущественно: там маленькие разрозненные островки событий, бессмысленные и непонятные, если не видишь, какой подводный слой держит их. Убийства, ужасы, отчаянные страдания видит герой Селимовича эпически бесстрастно, как нечто само собой разумеющееся: чего ж еще ожидать? Убили Авдагу — но ведь его смерть неизбежна, законна, она в «правилах игры»; отравили Шехагу — нечего жаловаться: та же борьба, та же игра; никто не волен уйти от своего жребия, и, вступая в игру, человек уже отрекается от себя… Эмпирический ряд событий у Селимовича словно разыгрывается по неотвратимой партитуре, порожденной изначальным столкновением непримиримых начал: поэтому эмпирическую реальность рассказчик описывает с какой-то леденящей бесстрастностью, ничему не удивляясь, никого вроде бы и не осуждая; но какие вулканические страсти собраны на том глубинном уровне, где составляется сама эта неотвратимая партитура, с какой исступленной последовательностью пытается герой Селимовича опровергнуть сами «правила игры» или,— если говорить в старинном стиле — ничего не имея к людям, сколь многое предъявляет он аллаху!
Проследим его драму.
И начнем с одного пункта, с лейтмотива, который в системе этических оценок романа представляется не просто существенным, но отправным. Этот мотив — определим его пока «на ощупь», по первому признаку — изобличение «химер» безличности.
Крестьяне отказались платить военную подать; власти забрали в крепость трех зачинщиков; родственники пошли за них просить, но опоздали: все трое уже казнены. Родственники купили гробы и стали ждать, когда им отдадут тела убитых…
«За что их казнили?» — спрашивает рассказчик.
«За что? Ты хочешь знать, за что?.. Сколько людей перебили на войне, а ты хочешь знать, за что казнили… мужиков из Жупчи! Лови рыбу, Ахмед Шабо!..»
Больше всего поражает Ахмеда спокойное безразличие крестьян, приехавших за убитыми; никакого возмущения — одна рассудительная покорность: надо бы скорее схоронить убитых, дома дел невпроворот, лето…
Нет, все-таки это непостижимо! Ахмед понял бы, если б в ярости мужики атаковали крепость, если бы пошли в ножи, если бы хоть возненавидели обидчиков. Но они… не хотят знать обидчиков! Они не вынесут мысли о том, что их родичей убили люди. Однако они легко мирятся с тем, что их убил закон, рок, судьба — безличная стихия. Этот самообман и кажется Ахмеду чудовищным. Но он с грустью убеждается, что подобным образом обманывают себя буквально все. Все утешают себя «химерами»!
Когда солдаты насиловали крестьянку, она лежала неподвижно, ждала, пока все кончится. Потом Ахмед подошел к ней, улыбнулся, вытер ей пот с лица: не бойся, мол, я тебе ничего не сделаю… Ее реакция была страшной — в припадке вдруг вспыхнувшей ненависти отшвырнула руку, плюнула утешителю в лицо. Она еще могла, пишет Селимович, снести насилие от тупой и слепой толпы, могла стать жертвой непостижимой судьбы, но она не могла вынести надругательства со стороны личности.
Итак, вот первый пункт концепции Селимовича: бессильный противодействовать обстоятельствам, человек сам себя мистифицирует, он надевает шоры, он населяет мир безличными, высшими силами, он попросту отказывается видеть за ними конкретных людей — так ему легче.
Холодный и беззлобный сердар Авдага, профессиональный сыщик, беззаветный слуга закона, бескорыстный и беспощадный проводник абстрактной справедливости и слепого, как закон, умиротворения,— вот самый последовательный аполог безличия. Конечно, у вас может кровь заледенеть в жилах от доводов этого слуги закона, но согласитесь, что резоны у него есть: людей много, все разные, каждый тянет в свою сторону, государство не дает им разлететься и передраться, без этого не выживем, нечего вставлять государству палки в колеса и обижаться на власть нечего, ведь не люди же карают смутьянов — их карает власть…
Перед героем «Крепости» — сплошной фронт безразличия: от добровольного идеолога абстрактной государственности до тупого терпеливого мужика, который уповает на аллаха и винит дьявола даже тогда, когда его брата казнит реальный и живой сердар Авдага.
«— Ты ненавидишь власть? Ведь она брата твоего убила.
— Камень упал и убил человека. Что ж, камень ненавидеть?
— Брата убили люди, а не камень.
— Нет, убили не люди, а власть».
…Так легче. Ахмед Шабо и сам чувствует, насколько так легче. Его самого одолевает соблазн в тяжкую минуту шепнуть себе: «Во всем виноваты шайтан, война и моя прерванная молодость». И при этом он знает, что это иллюзии, химеры! И при этом его жизненная, философская задача — снять пелену с глаз! Разглядеть именно людей во всех этих безличных фантомах… И поразительно покорное равнодушие крестьян из села Жупчи! Нет, все-таки это люди надругались над той женщиной! Нет, все-таки он негодяй и убийца, этот сердар Авдага! Нет, все-таки власть из людей составляется! И нет в мире никого, кроме людей! Люди, люди делают все: от мельчайшего поступка до выбора форм государственности.
С этой мыслью герой Селимовича и выходит в свою моральную одиссею. «Маленький человек», обиженный судьбой, вчерашний солдат, вышвырнутый со службы, ничтожный винтик, затерянный в гигантской общественной машине, он наделен по воле автора убийственной остротой зрения, он не признает ни безотчетного страха, ни мудрой покорности року — он хочет знать, кто виноват в его несчастьях!
Поверив, что «все — в человеке», он пытается в человеке найти причины и основы всего, концы и начала, Смысл и Возмездие.
Роман «Крепость», «башней» своей устремленный ввысь, к Смыслу истории, основанием уходит в вязкую топь, где борются между собой разрозненные «маленькие люди». Силою писательского таланта Селимович вскрывает противоречивость тех экзистенциалистских тезисов, которые в какой-то мере представляются ему достойными внимания в художественном исследовании сущности человеческого бытия.
Один за другим проходят люди перед умственным взором Ахмеда Шабо. Умственным — потому что это не столько даже реальные люди во плоти, сколько нравственные модели, варианты ответа на один и тот же мучащий автора вопрос: чего же стоит человек, если освободить его от «химерических» иллюзий — Закона, Судьбы, Порядка, Высшей Цели и прочих «самовнушений»,— если опереться на его, человека, собственные силы?
Вот варианты, причем самые яркие, самые привлекательные. Осман Вук? Беспощадный зверь, прикрывающийся маской отчаянного и веселого забулдыги! Шехага? Человек великих страстей, высокой любви и великой ненависти, но замкнут на своем, мстит за сына, весь мир поэтому считает виноватым и в этой вражде холоден, расчетлив и так же беспощаден. Может быть, Рамиз? Полубезумный бунтарь, готовый пожертвовать и собой, и половиной человечества ради того, чтобы скинуть «тиранов», но и у него впереди тупик, ибо, скинув своих противников, он окажется на их месте и начнет силой вынуждать к тому, что почитает счастьем. Так ведь и сердар Авдага, подлец и сыщик, думает, что он подталкивает к счастью слепое и непонятливое человечество!
И это, повторяю, самые яркие, самые сильные, по-своему благородные люди! Что же говорить о слабых — они вызывают только жалость и насмешку: и тихий трус Молла Ибрагим, честно сознающийся в своем бессилии, и шумливый прожектер Махмуд Неретляк, шутовством прикрывающий свой ужас перед жизнью, и мудрый Сеид Мехмед, который понял, что единственный путь спасения в этом мире суеты и жестокости — воспитать в себе равнодушие ко всему на свете. Самый близкий Ахмеду человек, его жена Тияна,— единственный образ, в котором Меша Селимович хотел поселить сочувствие и понимание,— не более чем покорное эхо героя, и отсюда странная художественная неорганичность Тияны, в характере которой старательно выписанное бытовое, сугубо «женское» начало должно компенсировать совершенно немыслимый для нее полет философской мысли… Единства не получается; однако и противоречивый образ Тияны по-своему свидетельствует о тяжкой абсурдности и разрозненности мира людей.
Целого нет. Люди раздроблены, бессильны, несчастны. Мир бесструктурен. Солдаты умирают под Хотином за совершенно непонятные интересы Оттоманской Порты. Родственники, измученные ожиданием, шлют солдатам письма, в которых пишут, будто живут хорошо, но письма до солдат не доходят: обозники в первую же холодную ночь разжигают этими листочками костер. Знаменосец, смельчак, не ведающий страха, ходивший в десятки атак и невредимым вышедший из-под тысячи пуль, вернувшись после роспуска войска в свое село, становится садоводом. Падает с груши, разбивается. Ахмед Шабо, заикнувшийся о том, что его мучит бессмысленность происходящего, изгнан со службы и остается в одиночестве, как прокаженный. «И хоть говори, хоть кричи — все впустую, никто ничего не слышит. Еще немного — и начнут проходить сквозь меня, словно я воздух, или брести по мне, словно я вода». Мир романа состоит из жертв и насильников. Таковы люди — если смотреть на них прямо, не убаюкивая себя иллюзиями.
Как быть чересчур зоркому человеку, сделавшему это