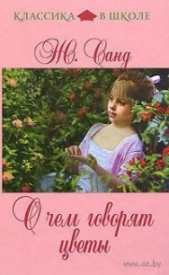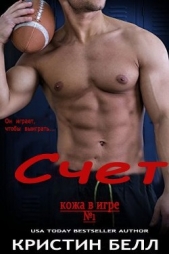Сестры

Сестры читать книгу онлайн
Джекки и Скейт — две сестры, под масками которых нетрудно узнать Джекки Кеннеди и Ли Радзивилл, двух светских львиц прошлого века, пожирательниц мужчин и искательниц больших состояний. На склоне лет Скейт, более красивая, элегантная, но менее обласканная судьбой, чем ее сестра, листая семейный альбом, рассказывает историю своей жизни одному журналисту. Ведь что такое иметь сестру? Это значит любить, соперничать, ненавидеть.
Написанный в откровенной и ироничной манере роман, в котором смешиваются настоящие и вымышленные факты, показывает с неожиданной стороны жизнь различных великосветских людей в 60-е годы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Чего я действительно желала, так это жить для себя самой и чтобы меня ценили как личность, а не как сестру, невестку или княгиню. Не как подругу Энди Уорхолла или Сесиля. Чикита Астор, которая была одной из моих лучших подруг, нет, лучшей подругой в те времена, когда я жила в 969-й, годами не уставала повторять, что я никогда не должна была покидать театр.
Чикита была более красивой и богатой, чем кто бы то ни был. Всюду, где бы ни появлялись Асторы, как мужчины, так и женщины, они приносили с собой красоту и элегантность. Когда я собирала друзей или смешивала стили, только Чикита оставалась вне категорий. Рядом с ней все греки выглядели нелепыми, включая Ливаносов, Ниархосов [15] и других любителей коньяка. Даже их корабли казались рыболовными суденышками на фоне яхт Асторов: одной — для Атлантики, другой — для Средиземноморья, похожих как две капли воды, начиная от банных полотенец и заканчивая статными моряками, прислуживающими гостям. Асторы принадлежали к старой школе, в которой смешались гангстеризм и аристократичность, баснословные прибыли и Орден Подвязки. Все это мне довелось увидеть еще раз значительно позже в Люксембурге, во время свадьбы их наследника и внучки Батиста, однако они были не на высоте, ведь, в конечном счете, целью всех этих экзотических преступлений было пополнение анонимных счетов.
Итальянцы были совсем другими — вам никогда не встретить никого более совершенного, чем Карло Брандолини. Однако нам, вероятно, стоит повременить с разговором об итальянцах. Знаете, в то время, о котором я вам рассказываю, мы с Джеки постоянно были не в ладах. Я не вернулась в Европу, желая стать стопроцентной Американкой и, в свой черед, королевой Америки.
Я намеревалась стать звездой.
Как по волшебству, в моей жизни снова появился Трумэн, главным образом по той причине, что он так же, как и я, остался без гроша, так же, как и я, был вынужден пускать всем пыль в глаза и действовать решительно. Мы вместе вознамерились реализовать себя каждый в своей области. Он дал один из балов, о которых я вам рассказывала, «Белое и Черное», а Чикита спонсировала пьесу «Рассказы Госпожи Холидей», в которой я собиралась выступить на Бродвее.
Трумэн устроил свой бал в честь Кей Грэхем, владелицы «Пост». По этому случаю я заказала себе платье в Милане — в то время я часто появлялась в обществе Генри Форда, который и оплатил счет, а также билеты модельера в оба конца.
Вы слышали о Кей, Знатной Даме Восточного побережья. Она похожа на передовую статью, читанную и перечитанную Коллегией Главных Редакторов В Полном Составе.
Трумэн зашел за мной, и я увидела, как он постарел, полысел, а его розовый напудренный череп напоминал чудовищный зад ребенка. С его губ, прикрывавших наполовину сгнившие зубы, слетали уже когда-то сказанные им остроты. Он казался кем-то, кто должен исчезнуть со сцены до того, как его имя будет опубликовано в колонке умерших в «Нью-Йорк Таймс», и кто уже никогда не допишет «Возвышенные молитвы». Мы ужинали в «Брасри» (в Нью-Йорке Трумэн признавал только четыре ресторана: «Лафайет», «Кот Баск», «Орсини'з» и, разумеется, «Оак Рум» в «Плазе», где и состоялся бал, но «Оак Рум» нравился всем, даже Ширли Лангаузер). Трумэн пытался воодушевить меня:
— Вскоре, княгиня, мы превратимся в ничто. Люди начнут говорить о нас с уважением. Следующей стадией будет жалость, а следующей за следующей — сочувствие. Потом спросят: «А чем, собственно, они занимались»? Знаешь, я не представляю себе, что может быть хуже постаревшего гомосексуалиста, которому не пишет никто, кроме студентов первого курса литературного факультета.
— Да. О, да! Та, чей первый светский бал состоялся в 51-м, теперь уже — в 75-м. Куда ты ездил на этой неделе, мой бедный остаток былой роскоши?
— Гостил у семьи Пале, Барбары и Тим-Тима, и семьи Мелхадо, — я решительно не могу дурачить Луизиного мужа, — а еще у Глории. Словно производил смотр войск, как во втором акте «Кармен».
— У какой Глории? Купер?..
— Гинес… Купер сейчас на этой чертовой яхте «Дэйзи Феллоуз», на которой я подхватил гонорею в 68-м.
— Чудо, что она до сих пор на плаву.
— Как и Глория.
— Туше. Ах ты, негодник! Она все для тебя сделала. В кого мы превращаемся, в жаб?
Трумэн примолк, и я испугалась, что он не может подобрать подходящую к случаю остроту, — ему все сложнее и сложнее становилось их придумывать, а те редкие, которые ему удавались, вынуждены были преодолевать препятствия, одно страшней другого, — однако он поднял голову и бросил на меня восторженный взгляд (у Трумэна всегда был такой вид, словно он изобрел особо порочный и уникальный способ ощущать радость, после чего удивляется, как ему это удалось):
— Мы Преуспеем Каждый в Своем Деле! Ты будешь играть в спектакле, а я приглашу в него Всех Красавцев Америки. Боже мой, княгиня, мы выиграем со счетом семьдесят девять — ноль, как эти чертовы негры из «Борстал Рэнджерс»!
Трумэн написал пьесу, заставил меня репетировать мою роль и потребовал, чтобы в утро премьеры сам Джордж Мастерс приехал из Голливуда гримировать меня.
Лучше было бы прислать мне бальзамировщика.
Самым тяжелым испытанием в моей жизни стало чтение прессы на следующий день в баре «Лонгчам», прямо под 48-й квартирой Трумэна, куда он всегда входил в темных очках, чтобы его обязательно узнали. «Нельзя сказать, что речь идет об оценке пьесы, — писала „Таймс“, — речь, по всей вероятности, должна идти о чем-то другом, что даже не достойно критики».
Я всегда цитирую именно эту фразу, потому что она самая безобидная, я имею в виду: «по всей вероятности». Нью-Йоркские критики в большинстве своем более кровожадны. Хотя со временем мне стало почти безразлично, что обо мне пишут, — отчасти потому, что мне лучше, чем кому бы то ни было, известна правда, а отчасти потому, что ложь потеряла для меня свое зыбкое очарование, — но однако я понимала, что критики могут быть и более снисходительными. Они стремились показать, что у них нет для меня места. А у меня была лишь одна забота: испытать себя в роли актрисы, попытавшейся убедиться в том, что ей удалось достичь мастерства и успеха — не славы, а признания.
«Среди присутствующих можно было увидеть…» — эта простая фраза, нарочито восхищенная, содержащая коварный намек и откровенное осуждение, на свой лад повторялась почти во всех статьях — «среди присутствующих можно было увидеть», — исключая меня из круга мыслящих, отвергающих или принимающих что-либо людей. Трумэн, комкая газеты, повторял ее, и, боже мой, это была правда, что среди присутствующих можно было увидеть… — даже имена критиков имеют значение, не так ли?
— Не читай эту статью, бесполезно, — сказал он мне. — Больше за своих друзей ты уже краснеть не будешь. Господи, спрашиваю я себя, кого они хотели, чтобы мы пригласили? Возможно, Ассоциацию Защитников Гражданских Прав или Совет Администрации Главной Больницы? Я учту это в следующий раз. Знаешь, против не могут восставать абсолютно все — и бедные, и богатые. Тебе не следовало бы втягивать меня в это.
Единственное, что доходило до моего сознания, так это то, что Трумэн говорил и говорил, чтобы отвлечь меня от моего провала, от меня самой. Он навлек на меня опалу, которая будет преследовать его до самой смерти. Вскоре он станет всего лишь тем, кто когда-то был знаком со знаменитостями.
Я вырвала газету у него из рук: «Ни плоха, ни хороша, просто не актриса».
— Большинство этих статей были написаны до того, как ты вышла на сцену, — добавил он. — Даже если бы ты играла Саломею в постановке Гарольда Пинтера или воровку в «Цветущей долине», это ничего бы не изменило.
Я играла эту пьесу еще двадцать один день — профсоюзный минимум, я также назвала бы это минимумом светским. Почти все мои знакомые пришли посмотреть, до какой степени я унижена, но все же, поскольку они платили за свои места, театр не понес убытков. Один лишь Нуреев, которого я не видела уже много лет, потому что он жил в Европе, откуда мне никогда не следовало уезжать (там меня никогда не подпустили бы к театру), пришел и в первый вечер, и во второй, и в третий — всю первую неделю. Он появлялся в сопровождении двух отборных женоподобных юношей и аплодировал так сильно, как только можно это делать, не повредив руки.