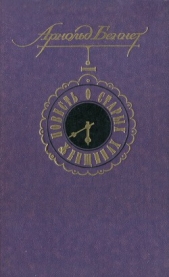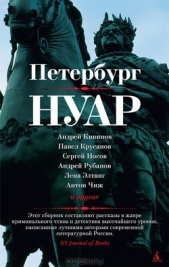Русские женщины (47 рассказов о женщинах)

Русские женщины (47 рассказов о женщинах) читать книгу онлайн
Странное дело: казалось бы, политика, футбол и женщины — три вещи, в которых разбирается любой. И всё-таки многие уважаемые писатели отказались от предложения написать рассказ для нашего сборника, оправдываясь тем, что в женщинах ничего не понимают.
Возможно, суть женщин и впрямь загадка. В отличие от сути стариков — те словно дети. В отличие от сути мужчин. Те устроены просто, как электрические зайчики на батарейке «Дюрасел», писать про них — сплошное удовольствие, и автор идёт на это, как рыба на икромёт.
А как устроена женщина? Она хлопает ресницами, и лучших аплодисментов нам не получить. Всё запутано, начиная с материала — ребро? морская пена? бестелесное вещество сна и лунного света? Постигнуть эту тайну без того, чтобы повредить рассудок, пожалуй, действительно нельзя. Но прикоснуться к ней всё же можно. Прикоснуться с надеждой остаться невредимым. И смельчаки нашлись. И честно выполнили свою работу. Их оказалось 43. Слава отважным!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В Святогорском монастыре она глядела на заваленную цветами могилу Пушкина и уже думала, что не понимает, отчего немыслимое — смерть — всегда нуждается в украшательстве: тот, кто находится по ту сторону цветов, их не видит, а те, кто их оставляет, низводят смерть до уровня клумбы, то есть чего-то не только поправимого, но и управляемого, и это то же самое, как если бы мальчишки, вырастая, шли со своими игрушечными винтовками на войну. Немцы, заминировавшие могилу в сорок четвёртом, были, видимо, совершенные дети, полагая, что смерть дозволительно дурить и отсрочивать самой смертью. И как можно было не знать, что от смерти существует одно средство, как можно было не искать заветное имя, которому мир, со всеми его букетами и бомбами, служил только орудием?
В автобус Марья Александровна в этот раз вернулась раньше других и, когда группа стала собираться, молча считала поднимавшихся в салон, смотрела, кто будет опоздавший. Однако опоздавших не оказалось. Больше того — в экскурсии теперь был один лишний. Прибился ли он тут, «у Пушкина», или ещё раньше, в Печорах, она не могла сказать, как и того, кто именно был лишний и где он расположился в автобусе. Алексею, привычно пересчитавшему головы, ничего странного в том, что их полку прибыло, не показалось, но её это пополнение взволновало чрезвычайно. До самой турбазы она пробовала угадать новичка, затем высматривала его на улице и в столовой, и всё впустую — находясь, безо всяких сомнений, в группе, тот умудрялся не попадаться ей на глаза. Наступала ночь. Марья Александровна и ещё несколько человек, в отличие от основной группы, оказались почему-то поселены где-то за турбазой, в деревне. Из-за этого она сначала разволновалась чуть не до слёз, так как хотела непременно искать невидимку, но потом, представив, как ходила бы по номерам и ей открывали бы те, кто с Печор косился на неё, решила, что даже хорошо, что их разделили. В деревянной гостинице, называвшейся «литературным отелем», в своей комнатке с портретом юного Пушкина на стене и стопкой детективов на полке, она всё же долго не находила себе места. Приближение заветного имени и появление инкогнито в автобусе казались ей связанными. Впрочем, иначе, наверное, и быть не могло. Как вообще она узнала бы заветное имя — прочла бы его на табличке, вдруг выскочившей из-под земли? Но и в этом случае кто-то ведь должен был бы показать табличку? И отчего бы тому, что имело такую власть над прошлым и могло без остатка вычитать его из настоящего, было загодя не позаботиться о помощнике? «Будь что будет, будь что будет…» — говорила Марья Александровна про себя, продолжала ходить по номеру, брала и оставляла книги, потирала бог знает где испачканные зелёнкой пальцы и, глядя на Пушкина, усмехалась странной мысли, что всё ещё способна его узнавать.
Ночью у неё был кошмар. Ей снилось, что она всё-таки вернулась на турбазу и разыскивала загадочного инкогнито. Турбаза служила одновременно и аэропортом, так что, зайдя в один из гостиничных номеров, Марья Александровна очутилась в самолёте. Она продолжала свои поиски в воздухе и не знала, кого ищет, до тех пор пока самолёт не начал падать. Тогда она увидела в первых рядах Вовку. Спасти сына она могла, позвав его, однако язык у неё будто одеревенел, так как ещё прежде она стала сознавать, что и самолёт, и кричавшие от ужаса люди, и сам Вовка были только приблизительными, грубыми изображениями чего-то чудовищного, стоявшего за ними, и уж лучше было этому орущему цирку разбиться вдребезги, чем быть названным по существу, явить свою изнанку.
Наутро она чувствовала себя разбитой, точно и в самом деле ходила куда-то. Картины кошмара были ещё до того ясны, что, когда приехал автобус и Марья Александровна шла на своё место между рядами, она не только не искала новичка, но даже боялась поднять глаза. Вчерашнюю слепую завесу больше не надо было угадывать позади, на дальних закраинах зрения, — полыхающая зубастая кайма теперь и составляла пределы видимого, и эти пределы сузились так, как если бы Марья Александровна глядела сквозь прорези в маске. И, сообразно полю зрения, будто убавлялось и само её существо. Она, словно в омут, погружалась на безопасную глубину внутри себя. Алексей говорил что-то о Ганнибалах и Пушкиных, а Марья Александровна слышала только звуки, цеплявшиеся друг за друга и ни за что более, — как мелькавшие в канавах лужи, они значили ровно то, чем были, и не сводились ни к чему, кроме самих себя. Оглушённая ими, она всё глубже, точно позади неё был ещё один салон, уходила в свои мысли, пытаясь скрыться от разраставшейся головной боли и от шума, который питал боль. Но потом со звуками что-то произошло. Она не сразу догадалась, что слышит стихи. И хотя читал их Алексей прескверно, как какую-нибудь неразборчивую инструкцию, это уже был не тот шершавый и трескучий фарш, что лез до сих пор из динамиков. Приободрившись, Марья Александровна коротко пробежала про себя первое, что подвернулось на ум, — «Пророка» — и ужаснулась ещё больше: за рифмованными строчками, как и за воплями обречённых в её кошмаре, было совсем не то, что на языке. Описывал ли Пушкин собственный кошмар или то, что видел наяву «духовными глазами», но сейчас эти строки чудились ей чем-то вроде мотыльков, плясавших у гигантского костра: вот было чудовищное пламя и вот было нечто, что притязало свидетельствовать о нём, не только не будучи огнём, но и боясь обжечься.
В дом-музей в Михайловском, увидав дикий виноград по тесовому фасаду, она не пошла, встала перед крыльцом и, будто искала что-то забытое, шарила по карманам и сумке. Когда за группой закрылись парадные двери, кто-то пристально глядел на неё из подводной тени двойных стёкол, но Марья Александровна не подавала виду и продолжала рыться в карманах. Затем, отдуваясь и разминая затёкшие ноги, она ходила по круговой подъездной аллее. Непонятная, тяжёлая горечь откачивала самый воздух от её головы. Давным-давно здесь, на аллее, к ней подошёл щербатый, навеселе, кряжистый дед с граблями, ни с того ни с сего забросил грабли за липы, хлопнул себя по колену и, трясясь от беззвучного смеха, сказал, что «на деле тут ничего, доча, от Пушкина не осталось — ни шиша, фьють!». Юная Марья Александровна хотела что-то ответить, даже начала задыхаться для внушения, как вдруг поняла, что дед говорит про войну. Смолчав, но уже и мало что разумея, она, когда тот лез за граблями, расслышала только последнее, скраденное зевотными матюками: «Воля ваша, на смерть что смотреть, но тут после германца — ямины да кóстрища. Открой, говорю, глаза, доча». И теперь, полвека спустя, у неё, можно сказать, открывались глаза. Она смотрела на дома, на мохнатые штакетники, на яблони, на мельницу и — потому как из мира продолжали улетучиваться слова, то есть то, без чего вещи не имели различия, а значит, и не могли существовать, — видела только какие-то стёртые электрические пепелища. Вероятно, подобным солнечным маревом мир предстаёт младенцу, но одно дело — мир, который только готовится быть названным, и другое — мир, с которого названия содраны вместе с кожей.
По дороге в Тригорское ей стало так плохо, что, заплакав, она просила у кого-то прощения и умоляла Вовку, хотя бы он пока и не мог показываться, поспешить — её силы были на исходе. К ней тянулись с соседних мест, брали за руку, предлагали воды и даже хотели требовать у шофёра остановки. Она смотрела на себя словно издали. Чтобы отвечать людям или просто благодарно кивать, ей приходилось обращаться к себе как к посторонней, подсказывая, что следует говорить, а то и вовсе подталкивать себя в спину. В музее Осиповых-Вульф она не смогла надеть бахилы, но странным образом — кто-то выручил, по-видимому, — те всё же оказались на ногах. Она шла в них как в снегоступах. Покои барского дома виделись ей знакомыми не оттого, что она бывала тут, а, наоборот, наитием чего-то потаённого, пропущенного. Была странная мысль: смерть лучше, чем значит. Экскурсия будто вела в гору. Дом кренился на парадное крыльцо, как корабль на подбитый нос (потому, должно быть, и вышла загвоздка с бахилами — скамья на крыльце тоже клевала носом). Молодой рябоватый гид выступал с отчаяньем вагонного коммивояжёра, на одной горловой ноте строчил поверх голов что историю умывального прибора, что стихи. Марья Александровна, хотя он едва не контузил её криком, старалась держаться его, так как боялась не осилить подъём в очередную комнату. Но её восхождение кончилось у остеклённого стенда с посмертной маской Пушкина. Тут, как перед зеркалом, она провела пальцами по волосам. Каменный ангел дышал на стекло. В вечном снегу покойного лика зияли прорези для глаз, как на карнавальной личине. Марья Александровна трогала лоб, потому что ощущала эту могильную опалубку на собственном лице. И все, на кого она смотрела сквозь слепящие бойницы, носили такие же маски смерти, неразличимые одна от другой. Единственный, кто оставался с открытым лицом, был по иронии судьбы давешний невидимка. Но его, конечно, больше не было ни в группе, ни в доме. Он ждал её в единственном месте, где мог раскрыть себя, — возле «дуба уединённого». Туда, в парк, к солнечным часам, она и пошла. Морозные мурашки сновали в её ногах, которых она не чувствовала под собой от радости. Союзница заветного имени, скрадывающего смыслы, кругом неё блистала ослепительная зима. Марья Александровна старалась не слишком бежать и внимательно смотрела по сторонам, ведь надо было не просто оказаться перед дубом, но отыскать ту единственную точку, с какой сын был запечатлён с внуком и невесткой. Точка эта находилась почему-то далее, чем рассчитывала Марья Александровна, в низинной рощице, шагах в полста от тропы, откуда дуба было почти не видать. Однако тут всё и открылось ей.