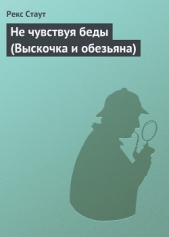Человек без свойств (Книга 2)

Человек без свойств (Книга 2) читать книгу онлайн
Вторая книга романа выдающегося австрийского писателя Роберта Музиля (1880-1942) не закончена. В настоящем издании представлены 38 глав, вышедших в 1932 году, и еще 14 глав, нумерация которых условна, опубликованных посмертно вдовой писателя в 1943 году. В центре второй книги — нравственные искания ее главного персонажа — Ульриха.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Этим кончилось сделанное Ульрихом замечание, содержавшее приблизительно эти объяснения в этой последовательности. Не менее коротко и преувеличенно, чем утверждение, что чувства в любви меньше всего, можно было, значит, сказать, что любовь, поскольку она есть чувство, нельзя распознать по чувству. Это, кстати, проливало некоторый свет на вопрос, почему он назвал любовь моральным событием. А три имени существительных — задатки, развитие и закрепление — были главными узлами, которые связывали упорядоченное понимание феномена чувства; во всяком случае — с определенной принципиальной позиции, на которую Ульрих охотней всего становился, когда нуждался в таком объяснении. Но поскольку доскональный разбор всего этого поставил бы большие требования и мог увести в доктринерство, Ульрих отставил начатое на этой точке.
Продолжение разошлось по двум направлениям. Судя по вышесказанному об этой беседе, тут должна была наступить очередь объекта и действий любви, чтобы определить по ним, к чему приводит ее весьма неодинаковый феномен; я наконец узнать, что же это «в сущности» такое — любовь. Потому-то речь о роли действий в определении чувства заходила даже в связи с его началом, — а уж в связи с его позднейшей судьбой она и подавно должна была зайти снова. Но Агата задала еще один вопрос; возможно, предположила она, — а у нее были причины если не подозревать, то бояться такого подозрения, — что выбранное братом объяснение годится только для слабого чувства или для опыта, который знать не хочет о сильных. Ульрих ответил: — Ничего подобного! — Как раз при величайшей своей силе чувство бывает не самым уверенным. При величайшем страхе бываешь парализован или кричишь, вместо того чтобы бежать или защищаться. В величайшем счастье есть часто какая-то особенная боль. Даже слишком большое усердие «только во вред», как говорят. И вообще можно утверждать, что при сильнейшем чувствовании чувства, как при затмении, теряют цвет и пропадают. Может быть, весь известный нам мир чувств приспособлен только для среднего уровня жизни и на высших ее ступенях прекращается, подобно тому как и начинается не на низших. Косвенно к этому относилось в то, с чем сталкиваешься, наблюдая за собственными чувствами, особенно глядя на них «через лупу». Они становятся тогда неясными, и различить их трудно. Но отчетливость силы, теряемую ими при этом, они должны были бы хоть как-то возместить отчетливостью внимания к ним, а даже этого не происходит… Так отвечал Ульрих, и это сопоставление угасания чувства при самосозерцании и на высших ступенях его проявления случайным не было. Ибо и то и другое — состояния, когда действия прекращены или затруднены, а поскольку связь между «чувствовать» и «действовать» так тесна, что многие считают ее единством, то оба примера дополняли друг друга не без умысла. Избегал же он сказать как раз то, что они оба знали но личному опыту, — что с высшей ступенью любовного чувства действительно может быть связало состояние умственного угасания и физической беспомощности. Поэтому он несколько насильственно отвел разговор от значения, которое имеют действия для чувств, — отвел, как бы намереваясь снова коснуться классификации любви по объектам. На первый взгляд эта несколько причудливая возможность и в самом деле лучше отвечала задаче упорядочить многозначное. Ведь если, к примеру, это богохульство — обозначать любовь к богу тем же словом, что и любовь к рыбной ловле, то дело тут, несомненно, в различии того, на что любовь направлена; и так же можно судить о значении объекта по всяким другим примерам. Огромные различия в любовное отношение к чему-то вносит, значит, не столько любовь, сколько это что-то. Так, есть объекты, которые делают любовь богатой и здоровой; и другие, которые делают ее бедной и болезненной, словно это зависит только от них. Есть объекты, которые должны ответить на любовь, чтобы она развернулась во всей своей силе и своеобразии; и есть объекты, при которых всякое подобное требование было бы наперед бессмысленно. Попросту говоря, этим отличается отношение к живым существам от отношения к неодушевленным предметам; но даже и будучи неодушевленным, объект — подлинный партнер любви, и его свойства влияют на ее свойства.
Чем неравноценнее этот партнер, тем кривее, чтобы не сказать искаженнее страстью, становится она сама.
— Сравни, — призывал Ульрих, — здоровую любовь молодых людей друг к другу и комично преувеличенную любовь одинокого человека к собаке, кошке или птенцу. Посмотри, как страсть между мужчиной и женщиной угасает или становится докучливой, — как нищий, которому не подают, — если на нее не отвечают или отвечают не в полной мере. Не забудь также, что при неравенстве союза, как то бывает между родителями и детьми или хозяином и слугой, между мужчиной и объектом его честолюбия или порочности, взаимность любви — это нечто очень ненадежное, просто-напросто пропащее. Везде, где регулирующий естественный обмен между состоянием и партнером любви нарушен, она вырождается, как нездоровая ткань!
Эта мысль, кажется, привлекала его чем-то особенным. Он готов был распространиться подробнее и привести множество примеров; но пока Ульрих обдумывал их, что-то, во что он не метил, но что, как полевой аромат, оживило намеченный путь ожиданием, чуть ли не по ошибке, казалось бы, отвлекло мысль к тому, что зовется в живописи натюрмортом, а по-немецки Stilleben — «тихой жизнью».
— В какой-то мере Смешно, что человек ценит хорошо написанного омара, — продолжал Ульрих без перехода, — блестящую, как зеркало, гроздь винограда и подвешенного за лапы зайца, вблизи которого всегда оказывается еще и фазан. Ведь человеческий аппетит смешон, а написанный аппетит еще смешней, чем естественный.
И у обоих было такое чувство, что это замечание связано с их темой глубже, чем казалось внешне, и входило в продолжение того, чего они не стали говорить о самих бебе.
Ведь в подлинных натюрмортах — вещах, животных, растениях, пейзажах и человеческих телах, изгнанных в круг искусства, — выказывает себя нечто иное, чем то, что они изображают, а именно — таинственный демонизм записанной жизни. Есть знаменитые картины такого рода, оба знали, следовательно, что имелось в виду; но лучше Говорить не об определенных картинах, а о некоей разновидности картин, которая к тому же не образует школы, а возникает беспорядочно, по манию мироздания. Агата спросила, по какому признаку можно ее узнать. Явно отказавшись назвать какую-либо решающую примету, Ульрих медленно, с улыбкой и без колебаний сказал:
— Волнующее, неясное, бесконечное эхо!
И Агата поняла его. Как-то чувствуешь, что ты на взморье. Жужжат букашки. Воздух приносит сотни луговых запахов. Мысль и чувство суетятся вдвоем. Но перед главами пустыня моря, за которую ты не отвечаешь, и все, что имеет значение на берегу, растворяется в однообразном движении бесконечного зрелища. Она подумала о том, что все истинные натюрморты могут вызывать эту счастливую ненасытную грусть. Чем дольше смотришь на них, тем яснее становится, что изображенные предметы как бы стоят на пестром берегу жизни с глазами, которые видят чудеса, и с отнявшимся языком.
Ульрих ответил теперь другой перифразой.
— В сущности, все натюрморты изображают мир шестого дня творения — когда бог и мир были еще наедине, без человека! — И, увидев вопросительную улыбку сестры. сказал: — По-человечески, стало быть, они вызывают, наверно, ревность, таинственное любопытство и печаль!
Это был почти «экспромт», и даже не худший; он отметил это с неудовольствием, ибо не любил этих обточенные, как шары, и наспех позолоченных внезапных мыслей. Но он не сделал никаких попыток поправить себя, да и сестра не задала никаких вопросов. Ибо надлежаще объясниться по поводу жутковатого искусства натюрморта обоим мешало его странное сходство с их собственной жизнью.
Оно играло в ней большую роль. Нет нужды подробно повторять все, уходившее в общие воспоминания детства, вновь пробудившиеся при встрече и с тех пор придававшие всем впечатлениям и большинству разговоров какую-то странность, но нельзя умолчать о том, что во всем этом всегда ощущалась одурманенность натюрморта. Непроизвольно, не предполагая ничего определенного, чем можно было бы руководствоваться, они поэтому обратили свое любопытство на все, что могло быть родственно сущности натюрморта; и получился примерно вот какой диалог, который, как веретено, еще раз напряг и заново прокрутил их разговор!