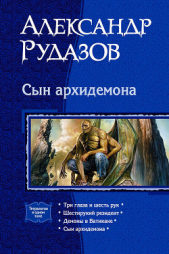Чужая шкура

Чужая шкура читать книгу онлайн
В юности Фредерик Ланберг мечтал писать книги, но судьба распорядилась иначе: он стал грозным критиком, которого ненавидит и боится весь литературный Париж. Работа ему опротивела, друзей нет, любимая женщина погибла в автокатастрофе. Он больше ничего не хочет и ни во что не верит, а меж тем новая жизнь дожидается у порога, в загадочном послании от незнакомки. Кто же скрывается за подписью «Карин»? И кто на самом деле носит шкуру Фредерика?
Дидье ван Ковеларт — один из крупнейших французских писателей современности, драматург, эссеист, сценарист, режиссер-постановщик, лауреат многих престижных литературных и театральных премий, в том числе Гонкуровской и Театральной премии Французской академии, автор двух десятков мировых бестселлеров, родился в Ницце, в 1960 году.
В романе Чужая шкура, удивительном и неожиданном, как всегда у Ковеларта, говорится о любви — о любви к женщине, к жизни и, конечно, к литературе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мать я волей-неволей почти забыл, воспоминание о ней зарубцевалось, как шрамы от ее окурков на моей коже: когда ее мужчина надолго пропадал, она считала, что это из-за меня, а я и не спорил. Она так боялась, что однажды превратится для него из любовницы просто в мать его сына… Она его даже не просила этого сына признать, да я бы и сам отказался. Ради нее.
Напротив, он, черты его лица, смех, обрывки слов и жестов навеки отпечатались в дальнем уголке моей памяти, ведь равнодушие, которое проявляет к тебе один из родителей куда легче пережить, чем жертвы, которые другой совершает якобы ради тебя и тебя же в этом обвиняет. Если мать отвергла меня, то отец не сделал для меня ровным счетом ничего, но ничего и не отнял, и я нисколько из-за него не страдал. Я никогда не ставил себе целью быть непохожим на него. Пусть футболист из меня никакой, зато я довольно долго размахивал гантелями в память о его богатырских плечах.
Надо признать, зеркало над туалетным столиком дает очень категоричный ответ на все мои вопросы: этого мужчину с отцом ничто не связывает, он всем обязан только своей приемной семье. И все же белобрысый верзила из Пайона, наш редкий гость, которого я никогда не называл иначе, чем Адидас (по имени его звала одна мать, а «папа» звучало бы совсем уж не к месту), этот фанат «Ниццы» и летающих над Мон-Шов тарелок, этот космический Зорро, который частенько снился мне в те первые ужасные ночи на детдомовской койке, все эти годы жил в моей душе и тайно подкармливал там кого-то незнакомого, хулигана и мятежника. А может, это он отец Ришара Глена? Должен ли я разорвать те узы, что связывают меня с приемной семьей, и откликнуться, грубо говоря, на зов крови?
Я вложил письмо обратно в конверт, застыл на мгновение перед секретером и пошел в коридор, к стенному шкафу. Вытащил оттуда чемоданы Доминик, наши лыжи, ботинки и анораки. В самой глубине, на папках с давними архивами, притаился старенький «Бразер-ЕП-44», на котором я печатал «Принцессу песков». В ту пору это была революционная новинка, Дэвид привез ее нам из Японии: первая портативная пишущая машинка на батарейках, совершенно бесшумная, с чернильными картриджами и термической бумагой. На ней не было напечатано ни одной статьи Фредерика Ланберга. Но если я буду отвечать читательнице из Брюгге, то только на машинке Ришара Глена.
Я ставлю «Бразер» на секретер и, сам не веря в удачу, жму кнопку запуска. Тотчас раздается гудение, за ним — щелчок вставшей на место кассеты. Долговечность батарей потрясает меня. Я вглядываюсь в крошечный диск с мигающим треугольником. Это индикатор памяти. С бьющимся сердцем я вставляю листок термической бумаги, тщетно пытаясь угадать, какой текст мог так долго томиться в плену микросхем «Бразера». Доминик взяла его с собой, переезжая из Кап-Ферра. Я ни разу не доставал его из шкафа, даже старался на него не смотреть, собирая вещи для очередной поездки в Валь-д’Изер [16].
Чтобы не затягивать томительное ожидание, я скорее забарабанил по клавишам, пытаясь вспомнить необходимый порядок действий. Наконец маленький экранчик на четырнадцать знаков высвечивает вопрос «Print text?» [17]. Я нажимаю на клавишу Y (Yes) в восторге, что помню ее предназначение, и читаю текст, по мере того, как он вылезает на бумагу.
«Родной мой!
Если ты расчехлил «Бразер», значит, ты решился воскресить Ришара. И значит, у тебя нет от меня вестей. Какое счастье, что ты решил так поступить. Какое счастье, что ты понял.
Я действительно хотела изменить свою жизнь, уйти из оркестра, съехать с этой квартиры, покончить с нашим прошлым, с этой безмятежной повседневностью, от которой ты тоже устал, только не хочешь этого признавать. Это вовсе не потеря, Фред. Ты меня не потерял. Еще все возможно, потому я и ушла. Без объяснений, без разговоров, не простясь. Мне просто захотелось побродить по свету с виолончелью. В мои годы такое средство не хуже лифтинга. Скажи, что я была права.
На папу давить бесполезно: он не знает, где я, и он сам посоветовал мне исчезнуть вот таким образом. Если он ради любви ко мне устранился и не стал меня удерживать, хотя вполне мог шантажировать, играя на дочерних чувствах, то и ты сможешь: вы с ним так похожи.
Не обижайся на нас, милый, и не злись. Моя любовь к тебе осталась прежней, несмотря на все твои старания. Но я больше не могла терпеть твою смиренную озлобленность, к которой ты невольно привык, надеясь защититься маской эдакого поучающего мизантропа. Ты стал походить на стиль своих рецензий, Фред, а ведь чужая роль очень опасна — постепенно она становится твоей второй натурой, убивая первую.
Конечно, ночью ты возвращался ко мне прежним, но только ночью. Мой полночный любовник, мой близнец за закрытыми ставнями. Вот только тогда я тебя узнавала и понимала, как тяжело тебя терять. Я решила, что прогоню тебя и этим вдохновлю сочинить для нас новую жизнь, в другом месте. Но ты все равно возвращаешься, и этому нет конца… И я больна оттого, что ты пытаешься спасти только наше прошлое.
Я не смогла сказать тебе все это. Я даже боялась, что не смогу тебе написать. Но я не хотела, чтобы ты прочел мое письмо до того, как сам примешь решение измениться. Да, у тебя остался единственный способ вернуть меня — переписать роман. Ты же чувствуешь, что я сейчас здесь, что я тебя слушаю, что я живу в твоих словах, что я рядом? Но жизнь есть жизнь, и ты не обязан меня ждать. Я же никогда не перестану искать тебя.
В добрый путь, Ришар Глен.
Л батарейки все-таки поменяй.
Доминик»
Стул падает. Едва добираюсь до кровати и без сил валюсь на твои простыни.
~~~
Виолончель извлекли из-под обломков малолитражки более или менее невредимой. Она — именно она! — была пристегнута ремнем безопасности. О, как же я ее возненавидел. Из-за нее ты ездила на этой машине с тонким корпусом, в другие она не влезала. Я чуть не разнес ее молотком, но вовремя одумался и из суеверия отдал на реставрацию, тогда как в клинике Пастер тебя собирали по косточкам. Тогда все думали, что ты скоро выйдешь из комы, даже радовались возможности спокойно тебя подлатать, не злоупотребляя анестезией. Скрипичный мастер обещал вернуть виолончель к середине октября. Хирург называл те же сроки.
Как далеко ты зашла, готовя свой побег, о котором я и не подозревал? Я понимаю, почему твой отец не сказал мне об этом ни слова за те два месяца после аварии, когда он был еще жив: твои планы в силу обстоятельств все равно оказались неосуществленными, и он полагал, что как только ты пойдешь на поправку, у меня появится шанс вернуть тебя. По крайней мере, он умер, не потеряв надежду, что ты очнешься.
Пылая от стыда и злости на самого себя за то, что ничего не заподозрил, ничего не понял, я роюсь в твоих папках с документами и счетами. Обнаруживаю, что в сервисе «Ситроен» тебе по твоей просьбе полностью отремонтировали машину, установили второй бензобак и подвеску «ралли», как на специальной модели для автопробега «Пекин — Париж». Натыкаюсь на договор с турагентством: в день катастрофы ты должна была отплыть на пароме из Ниццы в Александрию. Зачем ты оставила такую улику, если хотела исчезнуть без следа? Наверно, тебе и в голову не приходило, что я стану копаться в твоих бумагах, пока тебя нет. Неужели ты так меня уважала? Нет, скорее, просто об этом не подумала.
Я вспоминаю Этьена Романьяна в тот день, когда мы оказались с ним вместе в морге Пастер, и он отчаянно пытался понять, как его жена могла погибнуть на Лазурном берегу, если она в это время должна была находиться в Страсбурге, на семинаре «Алкатель» [18]. Разбавляя слезами горечь снедавших его подозрений, разрываясь между чувством вины передо мной («Как можно было заехать за сплошную?») и обидой на воплощенный во мне жестокий рок («Что же она не отделалась комой, как ваша?»), он растрогал меня безмерно. У меня-то оставалась надежда, и я не сомневался в Доминик: я считал, что она едет из Ниццы от отца, чтобы пойти вместе со мной на концерт Шарля Трене; об этом мы договорились по телефону, и билеты все еще лежали в моем кармане, и я жалел его и утешал, и думал, что мне так повезло по сравнению с этим вдовцом, лишившимся любви и веры. И как ему сказать, что, по всей вероятности, его жена проводила уик-энд с тем кудрявым красавчиком, который потихоньку справлялся о ней у практиканта в больнице? Уже через три дня Этьен уверил себя в том, что жена хотела сделать ему сюрприз ко дню рождения и подыскивала для них домик, ведь они вместе мечтали снять какой-нибудь особнячок в провинции, теперь она нашла подходящее объявление и хотела поскорее внести залог, а он торчал в лаборатории… «В этом все дело, правда?» — вымаливал он. Я отвечал: «да, конечно». Зато и ему в клинике Пантена, куда я перевел Доминик по совету врачей из Ниццы, все время казалось, будто она шевелит пальцами и улыбается, слыша мой голос.