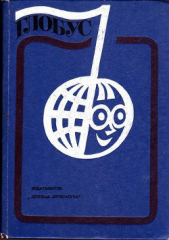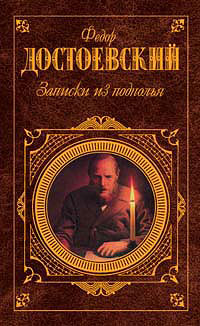Скверный глобус
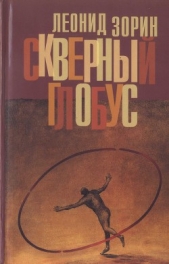
Скверный глобус читать книгу онлайн
Новую книгу знаменитого писателя и драматурга Леонида Зорина составили произведения последних лет: вышедшие в 2006–2008 годах в «Новом мире» и «Знамени». Все они написаны в излюбленном Зориным жанре маленького романа, причем большинство — как развернутый монолог. Собранные вместе, они обнаруживают цельность авторского замысла: объединяя разные эпохи — прошлое, настоящее и будущее, столицу и провинцию, близкое и дальнее зарубежье, самых разных и непохожих героев — людей, навсегда вошедших в историю, и тех, кто творит ее повседневно, — у каждого из них собственный роман с жизнью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Как сложишь сюжет, так проживешь». Он прав. Все зависит лишь от меня. Жизнь может быть чередою дней, а может обернуться сюжетом. Конечно, я оказался чуток к этой незамысловатой мудрости еще потому, что мной вновь овладела былая дорожная тревога. Юности оставалось все меньше, несколько терпких горячих капель, может, на два или три глотка. Сделаешь их — и вступишь в иную, грузную, осторожную пору, уже не легкую на подъем, склонную к трусости и опаске. А в слове «сюжет», волшебном слове, слышалась маршевая мелодия, весенний звон, мушкетерский азарт. Слово хотя и взято из жизни, а все же относится к милым книгам и к их героям, любящим риск, ставящим биографию на́ кон.
«Сложить сюжет». Тогда я впервые понял значение точной формулы. Она предлагает ясный выбор, дает надлежащее направление и упорядочивает мир.
Да, сказанное не меньше содеянного. Способно даже с ним и поспорить — я все еще не могу забыть произнесенного полушепотом, с этим заклокотавшим присвистом: «Слушать! А если неинтересно, то вас не держат». И я смолчал. И должен ждать, когда наконец эти слова прекратят чадить и перестанут ползти мне в бронхи, мешая свободному дыханию.
Опять все о том же! Возьми себя в руки. На пятом десятке уже непростительны такие конвульсии самолюбия. Сдается, мой друг, ты научился владеть ситуацией, но не собой. Слово могущественно, все верно. Ты это понял уже давно. Спасибо соседу. Теперь успокойся.
И трижды спасибо любовной горячке. На целых три года она побратала и подружила меня с моим городом. Для живчика, каким был я в ту пору, — почти астрономический срок. Я словно подписал перемирие в моей необъявленной войне, взглянул окрест себя и очнулся. Вокруг был зовущий непознанный мир.
Но как расточительно и бездумно мы обошлись с отпущенным временем! Беда была в том, что мать-природа нас наделила несочетаемыми неублажимыми характерами.
Мы были усердными читателями, и это нас, безусловно, роднило. Она смеялась: «два книжных маньяка». Пришествие запретных названий лишь предстояло, и до него еще оставалось немало лет, но книг достойных, чтоб их прочли, хватало, и недолгое время, которое мы оставляли друг другу, почти целиком на них уходило. Возможно, не сознавая того, мы отдыхали от наших споров.
Но ведь и книги нас разводили, мы находили в них каждый свое. Не совпадали оценки событий, оценки героев, оценки итогов. Картина мира в ее представлении была картиной враждебного мира, а наши усилия изменить ее на деле преследуют вздорную цель — вызвать у людей интерес. Цену имеет лишь сострадание.
Но мне, готовившему себя к соревновательной стихии, это вселенское сочувствие казалось не только обезоруживающим и размягчающим нашу волю, но и не слишком оправданным даром. «Люди несчастны? Пусть даже так. Но ведь они не только несчастны. Они еще злы, завистливы, мелочны. Несчастны? Но по чьей же вине? Что они делают, чтобы узнать, как пахнет счастье? А ничегошеньки. Злобствуют и по мере сил стараются помешать тем, кто действует».
Однако я уже понимал: да ей и не нужно, чтобы я действовал. Коль скоро я и она, мы оба, пресытились официальной ложью, то нечего мне участвовать в скачках. Это значило бы, что меня приручили. Сколько я ни старался внушить ей, что политическая жизнь строится по своим законам, она лишь вздыхала и улыбалась. Стала уклоняться от споров. Сказала, что различие спорящих скорее кажущееся, чем истинное. «Спорщики все на одно лицо». Слова эти меня огорчили. Худо, если она права. Смертные спорят тысячелетиями и выглядят, пожалуй, комично. Мысли, как души — непримиримы.
Что, если ей давно уже ясно то, что мне стало приоткрываться: в моем протесте и якобинстве есть ядовитая червоточинка. Чем больше я взрослел и мужал, тем все отчетливее я видел несоответствие того, что я испытываю и чувствую, тому, что обычно произношу.
Стал ощущать, хотя и смутно, что, отрицая жизнепорядок, я словно подписываю капитуляцию. Сам же отвергаю возможность занять в нем свое законное место. Но я ведь только о том и грежу! Пока я домогаюсь удачи, пока хочу ее и зову, я должен стремиться в него вписаться.
Да, тут таится противоречие, и в нем задыхается моя фронда. Надо сознаться себе самому — личный успех сближает с миром. Несовершенство его очевидно, но сколько в нем магии и волшбы! И сколько поистине царских милостей. За них и прощаешь несправедливость, исходно заложенную в неравенстве. Тем более что равенства нет. Искра от бога и искра от спички не сходны и не равны меж собою. Нет в том вины ни земли, ни неба.
Так мог ли я ощутить потребность слить свою жизнь с народной жизнью? О, нет, я мог ее лишь оплакать. При этом без особой охоты. Я отдавал себе отчет, что посягаю на светлый образ, созданный русской литературой и поддержанный общественным мнением. Что даже рискую репутацией свободомыслящего интеллигента, готового положить живот за други своя и все население. Поэтому счел за благо воздерживаться от эксгибиционистских признаний. Но девочке, любившей меня, все и без них было понятно. Однажды она с усмешкой вздохнула: «ты развиваешься на глазах». Я изготовился к защите, но продолжения не последовало. Мне захотелось развеять облачко — пусть мы иной раз думаем разно, главное, что чувствуем сходно. Она не ответила, отмолчалась.
Это меня насторожило. Значит, она не ищет согласия. Ведь, в сущности, я сейчас повторил ее же собственные слова. Это она мне говорила: «Кто плохо мыслит — небезнадежен, можно прочесть умные книжки. Опасен тот, кто бездарно чувствует». И тут же добавила, что геронты, которые управляют нами, именно этим и ужасны — нечем жалеть и нечем понять. Даже их глупость — от их бесчувственности. Зато и заразили страну своим слоновым самодовольством.
В тот раз я вернул ее на землю. Сказал, что другой страны у нас нет и, как я полагаю, не будет. Она пожала плечами: как знать.
Впоследствии, когда все вдруг вздыбилось, я усомнился в своей правоте. Может быть, эта певчая птичка и впрямь способна была на предвиденье? Откуда это зоркое сердце у девушки из унылой семьи, чье детство прошло на соседней улице, в таких же комнатках, что у нас, с теми же низкими потолками, с грязным двором под самыми окнами?
Но все эти мысли взошли позднее, когда уже сам я стал ловчею птицей, пока же я безутешно думал: что будет с нами — с ней и со мной? Да, я любил ее каждую жилочку, она давно мне дороже всех, дороже — стыдно шепнуть — родителей. Но что же мне делать? Остаться здесь? И видеть до конца своих дней этот прогорклый кисель вокруг, болтаться в нем и сегодня, и завтра, и послезавтра, пока не состарюсь, пока не уляжется, не замрет, не обесцветится моя кровь?
У каждого свой крутой маршрут. Не зря же сосед с белесыми усиками сказал, что, как сложишь ты свой сюжет, так и проживешь на земле.
Но складывать — мне. И только мне. Сюжет зависит лишь от того, каков у судьбы будет соавтор. Сможешь ли соответствовать ей, услышать вовремя зов трубы и вовремя на него отозваться? Не сможешь — не на кого пенять.
Да, я смогу. Я услышу, я чувствую явившийся невесть откуда кураж. Во всем моем существе гремит мятежная походная музыка. Я верю в свою южную молодость.
Когда, спустя уже некий срок, мне окончательно стало ясно то, что разлука неотвратима, я постарался себе внушить, что для нее это будет благом. Что ей за радость следить за тем, как я кляну себя за нерешительность и, может быть, втайне ее виню за то, что проиграл свою партию? И должен ли я себя укорять? Я просто один из тех парусов в тумане моря, возжаждавших бури, не пожелавших укрыться в гавани. В той, где мне выпало плесневеть. Какая тут вина и измена?
Не все мои доводы были фальшивы. За эти годы она и впрямь намаялась, настрадалась со мною. Требовательность моя росла, а бережность зато убывала. И каково ей, в сущности, девочке, было пережить две беременности, обе бесчеловечно оборванные? Утреннее вешнее чувство скупо ей отмерило счастье. Да и не все для счастья родятся.
И все же, не проронив ни звука, она вопреки всему ждала, когда я позову ее в жены. Потом, еще раньше меня поняла, что я уже созрел для побега. И сколько щедрости было в сестринском, если не в материнском совете! Сама и сказала: «Ты должен уехать». Я сразу же согласился — должен. В этом я был убежден, уверен. Хотя и не сумел бы ответить, ну почему, в самом деле — должен? Кому я должен? Нелепый долг.