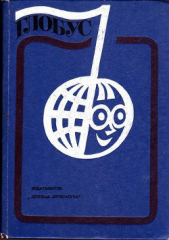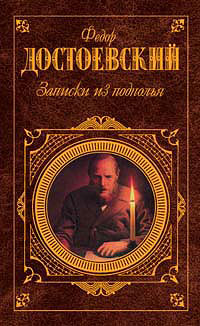Скверный глобус
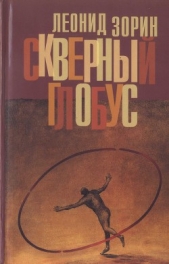
Скверный глобус читать книгу онлайн
Новую книгу знаменитого писателя и драматурга Леонида Зорина составили произведения последних лет: вышедшие в 2006–2008 годах в «Новом мире» и «Знамени». Все они написаны в излюбленном Зориным жанре маленького романа, причем большинство — как развернутый монолог. Собранные вместе, они обнаруживают цельность авторского замысла: объединяя разные эпохи — прошлое, настоящее и будущее, столицу и провинцию, близкое и дальнее зарубежье, самых разных и непохожих героев — людей, навсегда вошедших в историю, и тех, кто творит ее повседневно, — у каждого из них собственный роман с жизнью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Конечно, на зимнем ветреном юге случались печальные вечера. Иной раз одиночество давит. Впрочем, не так уж я и одинок. Был ведь еще мой соглядатай. Жить под его испытующим прищуром мне приходилось и день и ночь. Ежеминутно следить за собою — неблагодарное занятие. Проще воспитывать род людской. Но он своей запредельной властью давно заставил меня принять это суровое послушание, заставил жить укрощенной жизнью, в которой страсти были запретны.
Что вышло из этого самосоздания? Можно сказать, что других я утешил больше, чем себя самого. Да и они не подобрели. Выиграла только словесность. Видимо, это ограничение, сдавленный, заглушенный крик, произвели некий новый тон.
Я это понял, прощаясь с веком, который нам оставил великую, но не умевшую себя сдерживать, избыточную литературу. Я так и не смог полюбить Достоевского. Не смог полюбить этой истошной, захлебывающейся, Аввакумовой правды. Дошедшей почти до исступления, до пены, выступившей на устах. Такая правда невыносима. Не лучше беззастенчивой лжи. Правда требует грации и экономности ничуть не меньше, чем красота. Неумеренные дары природы так же опасны, как ее скупость, как обделенность ее вниманием. Подозреваю, что все трибуны — не самые лучшие литераторы. У них под руками лишь громы и молнии. Восстань, пророк, и жги сердца. Прошу прощения, господа, их жгут не восставшие пророки, их жжет этот пушкинский глагол.
Но Пушкин исчез в садах лицея. На смену тем, кто ему наследовал, пришли ясновидцы и страстотерпцы. А уж затем явились и мы, варвары, разношерстные люди, худого рода, пестрого племени. Мы посягнули на старые парки, а также — на позднейшие кафедры, и в эту словесность певцов и профетов внесли свою шуструю, хваткую речь. Все мы, родившиеся на свет в последнюю треть былого века, сперва опростили его язык, потом разрушили и барьер, которым описанная жизнь привыкла заслоняться от подлинной. Возможно, тут было веление времени, не зря же Толстой прилагал усилия, чтоб в слоге его была неряшливость — он ощущал в ней кислород.
Никак не хочу его умалить или поставить в ряд с остальными. Известно, это наш судия, наместник Бога, вокруг лишь труженики, чернорабочие литературы. Самые скромные из нас не называли себя иначе.
Речь моя всего лишь о том, что у любой эпохи — свой воздух и что словесность его вдыхает. Что начинается новый век. Он уже хочет другого платья, он уже ищет свои слова, чтобы явить граду и миру вновь обретенные черты — свои никуда не годные нервы, женственную тоску по силе, жалкое старчество, стыдный страх.
Нет спора, житейский репертуар все тот же, не балует разнообразием. И все же найдется ли для меня свой закуток на этом Парнасе? Может и не найтись, не взыщите.
Каждый совершает, что может. Недаром же твои диалоги — признания, произнесенные вслух, не ожидающие ответа. Не жди его — это и есть ответ. А сетовать — пустое занятие.
Долго ли будут меня читать после того, как я удалюсь? Все литераторы мечтают о длительной жизни после кончины — мечта уморительная и детская. Общество сильно раздражают осточертевшие имена, а привлекают лишь неизвестные. К этой потребности надо привыкнуть. Однако надежда не оставляет, и, право же, можно ее простить — кому же хочется быть забытым?
Так долго ли будут меня читать? Нет, не об этом стоит тревожиться. Долго ли люди будут читать? Вот в чем вопрос, господин писатель. Старая публика исчезает, новой — все меньше дела до книжек. Можно втихомолку пошучивать над юными рекрутами словесности, над этой забавной суетной порослью и над ее игрой в изысканность. Над тем, что она, как девица на выданье, храбрится и раздувает ноздри, изображает то страсть, то скорбь. Можно смеяться над жалкой хитростью, когда под мистической поволокой она надеется скрыть растерянность, но надо понять, что ей выпало выразить сразу и ужас перед грядущим, и осознание исчерпанности. Поэтому от нее исходит такой отчетливый трупный запах. Не перебьешь никакими духами — вылей их на себя хоть банку!
Очень возможно, что мне повезло. Я еще мог себе позволить думать о будущем в литературе, а не о будущем литературы. Дни мои были посвящены нанизыванию строки за строкой, стилю и человеку в зеркале, который этот стиль диктовал.
Не только — за письменным столом. Его не устроила моя личность. Он разбирал ее по кирпичику и выжигал все то, что считал нежизнеспособным и лишним.
Он запрещал и сердцу и слову вялость, беспомощность, неумеренность. То и другое должны были стать сдержанными, хранить свой секрет. И он затягивал мой ремень все туже, чтоб ни одно словечко, если оно цветисто и пышно, не вырвалось из меня наружу. Я должен был выражать себя скупо, а, поднимаясь из-за стола, в том же регистре творить свою жизнь, существовать в ней негромко, но прочно. Сосредоточить свои усилия. Не распылять их. Собрать в кулак, двигаясь к единственной цели.
Я поступал, как он внушал, и делал то, чего он хотел. Я вспоминал о своей медицине, когда это требовалось сюжету. Я и на самых близких людей смотрел как на будущих персонажей.
Стоила игра этих жертв? Стоило воссоздание жизни той, несочиненной, той, подлинной? О, разумеется, жизнь под пером, прошедшая сквозь жаровню мысли, кажется весомей и глубже. Перо соскребает с нее шелуху, словно ключом ее отмыкает и продирается — взмах за взмахом — все дальше, к сути, к смыслу, к секрету.
Но, может быть, в этой-то шелухе, в этих захлестах, в стесанной стружке и было главное очарование? Поздно об этом рассуждать. Писательство мне заменило весь свет — молодость, любовь и религию.
Впрочем, теперь уже не поймешь, что было частью, что было целым, что было первым, а что — вторым. Можно разъять мой монолог на реплики — они ведь не сцеплены. Но жизнь не разделишь на части, каждая проросла в другой. Меня нельзя уже развести с этим зеркальным отражением. В давние дни сей господин настолько покорил мою душу, что я пожелал в нем раствориться. Исполнилось. Мы и впрямь одно целое.
Кто из нас этого добился — я или он — уже неважно. Важно, что нас уже не различишь. Разве, если вернуться назад на сорок лет, или чуть больше, на берег покинутой Меотиды и встретить одного малыша, который там жил, ничего не предвидя.
Нынче пред вами старое чучело в полуседой бороде и усах. Вряд ли мы схожи. Но важно понять: что делало жизнь детской души такой неспокойной? Неутолимой? Что выдернуло ее из толпы? И почему, едва оперившись, ты вдруг задумался над загадкой: так в чем она, в чем она, эта причина, что видимое беднее скрытого и воплощение — хуже замысла? Сам человек тому пример. Таким ли был некогда замысел неба?
Нет, лучше не возвращаться назад. Смотришь на старую фотографию, остановившую краткий миг, и сразу же гасишь одно желание: немедленно переписать и детство и все, что последовало за ним. Перебелить и переделать едва ли не всю свою судьбу.
Все же в ней было и много славного. Знал это острое наслаждение, которое доставляла работа и все, что сопутствовало ей, — раскладывание писчей бумаги, забавы с карандашами и перьями, распухшие записные книжки, настраивавшие тебя, как скрипку. И этот егерский холодок, когда решаешься наконец выбрать необходимое слово. Радуешься, как малый ребенок, чувствуя его свежесть и меткость.
А этот донесшийся до тебя неведомо откуда сигнал: дело ладится, мысль на верном пути. Сама судьба невзначай, ненароком, подсказывает тебе решение и посылает тех, кого нужно.
Удовлетворение кратко. Но тут уж ничего не поделаешь. В замысле все почти совершенно — до чуда, до головокружения — свершения неизменно тусклее. Что ж, был зато и счастливый жар.
И все же: как надо жить свою жизнь? Когда-то ответ казался прост: мудрее всего жизнь ради жизни. Недаром же она соответствует любезной сердцу литературе — внятной, естественной, без претензий. Но нынче я не думаю так и, больше того, я так не чувствую. И поиск истины в непритязательности, и поиск смысла в наших усилиях занять собою клочок пространства кажутся мне попыткой бегства от неразрешимой загадки. Такая жизнь — подобие жизни, и обретенным тобою зрением видишь ее приговоренность.