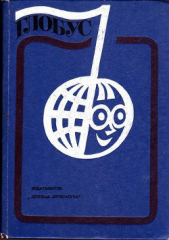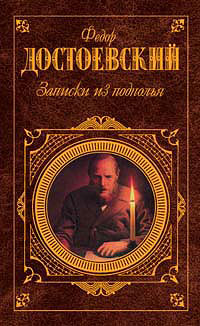Скверный глобус
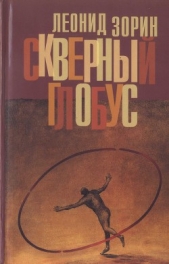
Скверный глобус читать книгу онлайн
Новую книгу знаменитого писателя и драматурга Леонида Зорина составили произведения последних лет: вышедшие в 2006–2008 годах в «Новом мире» и «Знамени». Все они написаны в излюбленном Зориным жанре маленького романа, причем большинство — как развернутый монолог. Собранные вместе, они обнаруживают цельность авторского замысла: объединяя разные эпохи — прошлое, настоящее и будущее, столицу и провинцию, близкое и дальнее зарубежье, самых разных и непохожих героев — людей, навсегда вошедших в историю, и тех, кто творит ее повседневно, — у каждого из них собственный роман с жизнью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
При этом — опытен и приметлив. Однажды сказал, что я умею найти подходящую формулировку. Я принял его похвалу с благодарностью. Естественно, не заикнувшись о том, что даже пристойная формулировка всего лишь пародия на формулу, бумажная бабочка-однодневка. Роль формулы совершенно иная — она и фиксирует соображения, и проясняет их суть и смысл. С одной стороны, она придает им конечную форму, с другой стороны, она их выводит на высший уровень. Но объяснять это было бы глупо и, разумеется, — непочтительно.
Глупо, ибо он бы не понял, что формула это легитимация — она упорядочивает хаос, в том числе и хаос сознания, и узаконивает мысль, даже и самую еретическую. Формула ее приручает. Важно лишь помнить: движение мысли не столько линейно, сколько ступенчато. Все эти мои рассуждения заставили бы его потеть еще щедрее и неудержимей. А непочтительность я проявил бы демонстрацией своего превосходства. И сделал бы из доброхота врага.
Этот вполне рядовой эпизод, сам по себе ничего не значивший, помог мне четко определить, где расположена моя ниша — я бы сгодился на роль человека, которому удается придать сумятице необязательных мнений некую концептуальную стройность. Стало быть, мое назначение — место советника и подсказчика.
Тем более я не рвался командовать. Слишком крутой и коварный искус. Быть рядом — комфортнее и надежней, тень предпочтительней солнцепека.
Конечно, легче понять, чем занять столь соблазнительную позицию. Чем выше, тем отвеснее лестница. Ну что же, ведь нигде не написано, что мне должно быть легко и просто.
Итак, я обрел свою контору. Не без содействия покровителя. Отечески на меня поглядывая вдруг запотевшими очами, он произнес: «Хочу, чтобы вы когда-нибудь хорошо меня вспомнили». Трогательно, но я еще мог лет тридцать не думать о потустороннем и поспешил забыть эту фразу. Мне предстояла длинная жизнь, и в ней нельзя было расслабляться.
Я полагал, что моя восприимчивость поможет сравнительно быстро восполнить лакуны в моем образовании. Но скоро я понял, что эта наука дается не напором, а службой. Чиновничество не признает ни резких шагов, ни быстрых поступков. Поэтому новичок, как правило, испытывает недоумение, а иногда приходит в отчаянье. С налета почти невозможно постичь, в чем кроется суть непременной затяжки и почему пустячное дело твердеет, как осажденная крепость. Я тоже прошел сквозь долгий период, когда мне казалось, куда ни толкнись, уткнешься в некое вязкое месиво — на всех этажах, во всех кабинетах какой-то бессмысленный круговорот. И так захотелось придать осмысленность вращению этой безумной мельницы, которая день за днем перемалывает бесценное невозвратное время. По счастью, я придержал постромки.
Мало-помалу стало понятным — все то, что представлялось мне видимостью, было сущностно и обладало весом. Открылось, что имитация деятельности — такая же деятельность, как все прочие, но смысл ее не сразу виден. А то, что я зову имитацией, требует мастерства и искусства. Впрочем, как всякая имитация. Что торможение это едва ли не главный рычаг в науке вождения. Именно благодаря торможению каждое дело и ситуация имеют возможность, созрев, обнаружить, достойны ли они продвиженья. Решение необратимо, как в шахматах, в которых взять ход назад запретно. К тому же и пешки назад не ходят, они превращаются в фигуры.
Движимый своей тягой к формуле, я ее вылепил для себя: чиновничество не только класс, оно — становой хребет государства уже потому, что только оно определяет очередность любой стоящей пред ним проблемы — либо откладывает ее, либо дает ей зеленый свет. Вот почему лишь эта власть не иллюзорна, а реальна. Ее значение неоценимо — в нашем мятущемся отечестве с его анархическим первородством именно она утверждает здоровый эволюционный принцип. Чиновничество всегда триедино — и фильтр, и барьер, и арбитр. Все обаяние сверхдержавы метафизически исходило из совершенства этой оси.
В дальнейшем чем ясней становилась роль торможения, тем существенней менялась моя оценка минувшего. Мне удалось взглянуть трезвее на заклейменную стагнацию. Это была хотя обреченная, но и отважная попытка остановить движение к взрыву. Нынешнее слово «стабильность», в конечном счете, являет все то же почти героическое стремление! Народы и страны знают эпохи, когда разумно и необходимо сделать сперва два шага назад, чтобы потом сделать шаг вперед.
Однако в дни своего дебюта я больше жил сердцем. И, вспоминая, как я входил растерянным отроком в казенный дом, невольно испытывал, казалось бы, забытую дрожь. Правда, на сей раз совсем иную. Если тогда был трепет зависимости от некой неодолимой силы, то ныне во мне росло волнение от нового горделивого чувства. Пусть я никто и звать никак, но я уже причащен, приобщен к этому ордену посвященных. Дайте мне самый короткий срок — и я обрету и голос, и имя.
Отныне между мною и теми, кто мается, ожидая приема, лежит разделительная черта. Незримая, но такая же властная и выводящая из очереди, как та, что дает моей машине возможность уйти от застрявших в пробке.
Уже видна Триумфальная арка. Тешит мой взгляд и бодрит мой дух. Казалось бы, памятник громкой славы не может быть маяком человека, чей выбор — оставаться в тени, но существует свой, потаенный, сладостный холодок триумфа, невидимого, неслышного людям. И в нем — ни с чем не сравнимый кайф.
«Я обрету и голос и имя». Так часто я твердил ей о том же. Другими словами, задиристо, сбивчиво, но столь же убежденно — так будет. Похоже, что я родился на свет, уже сознавая, что не гожусь для жизни в стоячей воде под ряской.
Поверила она мне? Бог весть. Поверила ли в меня? Не знаю. Я мог положиться на ее преданность, я видел и нежность ее, и страсть. Но не согласие. Его не было. Однажды я ей даже сказал: «Бесспорней любить, чем любить спорить». Она и с этим не согласилась.
Не сразу, но все у меня срослось. Стали упоминать мое имя и отличать мой голос от прочих. Хотя я всегда следил за тем, чтобы не повышать регистра. Однажды даже зарифмовал, вспомнив про давние ювенилии, строгий наказ самому себе: «Не гулко и не звонко, не громы сотворя, а в духе хлада тонка, библейски говоря». Эта невинная забава, ребячливая игра в стишки, не умаляла серьезности сказанного. Нужно быть веским человеком. Веский человек не грохочет. Он изъясняется не шумно, тем самым заставляя прислушаться. Так, шаг за шагом, я стал своим.
Думаю, ощущение родственности, единой семьи, мне помогло и в отношениях с начальством — ведь каждый кулик на свой салтык.
Когда я мысленно обозреваю пеструю галерею шефов, выпавших мне по воле судьбы, я отмечаю не столько различия, сколько их бесспорную схожесть. Различия были в оттенках и черточках, но каждого я мог отнести к одной из двух своих характеристик. Кто был ограниченней и простодушней, тот излучал упоение саном и убежденность в непогрешимости. Кто был умнее и дальновидней, чаще всего, был подозрителен и склонен к подавленной истерике. Меня выручала в обоих случаях впоследствии избранная позиция — жалею, сочувствую, снисхожу.
В этой нелегкой игре в гуманность требовалось свое мастерство. Нужно было уметь находить необходимые оправдания. Помню, один из моих патронов любил окружать себя земляками. Я милосердно его амнистировал: «из всех разновидностей непотизма землячество — самая человечная. Оно исходит из ностальгии». Такой диалог с самим собой всегда оказывался уместен. Все чаще я думал: «Да. Разумеется. Власть можно употребить во благо, власть можно употребить во зло. Но можно употребить саму власть. Да так, что она этого и не заметит».
Женщине, увиденной мною нынешним утром на перекрестке, если, конечно, это она, я ничего бы не растолковал. Уж за ее благородной пазухой припасено для меня несомненно уничижительное словцо. Я не сумел бы ей объяснить, что существует решающий выбор — кто-то желает жить на земле и делать жизнь, а кто-то, напротив, предпочитает остаться волчонком. При этом — одиноким волчонком, больше всего ненавидящим стаю. Решившим воевать с целым миром — с лесом, полем и степью, со всем живым. И все потому, что мир не таков, каким его хочет видеть волчонок. За долгие годы я нагляделся на этих прожженных идеалистов, сделавших вечное отрицание призванием, идеей, профессией. Недаром же и запас их чувств, подобно запасу слов, сократился, сжался до одного лишь звука. «Нет» — это все, что они способны бросить от всех своих щедрот роду людскому и белому свету.