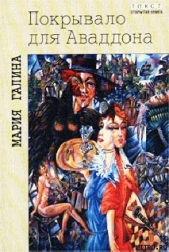Предательство Риты Хейворт

Предательство Риты Хейворт читать книгу онлайн
Мануэль Пуиг — один из ярчайших представителей аргентинской литературы ХХ века, так называемой «новой латиноамериканской литературы». Имя Пуига прочно заняло место рядом с Борхесом, Кортасаром, Сабато, Амаду, Маркесом, Карпентьером, Бенедетти. Его книги переведены на все европейские языки и постоянно переиздаются.
«Предательство Риты Хейворт» (Рита Хейворт — легендарная голливудская красавица, звезда экрана) — дебютный роман Пуига, после которого о нем заговорил весь мир. Работая в сложнейшем жанре «бесконечной строки», автор создает уникальное полотно человеческой жизни — от рождения до старости — с помощью постоянных «переломов» сюжета, резкой смены персонажей, хитрой интриги.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
VIII. Мита. Зима 1943 года
И ни одного дружка не дам Эктору этим летом с собой привезти, если примутся гонять мяч во дворе, своими руками убью; нынешней зимой в Ла-Плате десять градусов мороза, а в Вальехосе пятнадцать, но растения в новых горшках перезимовали, не померзли. Раздвинешь портьеры в конце гостиной, откроешь стеклянную дверь, а во дворе уже все зеленеет. Вокруг апельсинового дерева высокие папоротники и фикусы, и вьюнок пышно цветет, облепив колодезную решетку. А из дальнего уголка, где растут мандариновые деревья, веет легкой свежестью никогда не просыхающей земли, солнце туда почти не заглядывает. Там лучше всего сажать каллы, всегда тень. Летом каждый вечер будем ужинать во дворе, в прохладе деревьев. И каждый день ходить в бассейн, хуже нет — изнывать летом от зноя. В разгар зимы под поредевшими кронами мандаринов белым-бело от калл, ирисов у стены почти не видно, последний год их сажаю, темно-фиолетовые с белым, кладбищенскую тоску нагоняют эти ирисы. В зимние каникулы Тото и Эктор отвезли на кладбище каллы, было не очень холодно, поехали на велосипеде за столько километров. Я никогда не соберусь с духом туда наведаться. Зимой сиесты длинные, а ночью прочтешь всю газету и из романа две главы, а то три или четыре, пока глаза закроешь, а Берто за мной шпионит, притворяется спящим, но я знаю: если заплачу — сразу заметит, он все ждет, что я забуду, только разве я смогу забыть? Ну вот, кажется, уснул. Медленным шагом идешь двадцать кварталов туда и двадцать обратно — по другим улицам, при ходьбе не чувствуешь холода, и солнышко пригревает в два часа дня, прогуляешься и вечером быстрее засыпаешь, лучше не ложиться в сиесту; в двух кварталах от дома начинаются земляные улицы, через четыре квартала появляются лачуги, а чуть дальше уже тянутся поля с редкими фермами. Сегодня ни один листок не шелохнется, вчера налетел студеный ветер с пампы, еще месяц — и конец прогулкам, с наступлением октября в Вальехосе поднимается ветер с пылью, от него сушит рот и нос, першит в горле. С утра в темных очках, без них на улицу не выйдешь, сквозь стекла высоко бегущие грозовые тучи кажутся черными, а над крышами домов вихрятся облака коричневой пыли, когда-нибудь пылевой вихрь занесет дома, — и так, пока не утихнут сильные западные ветры. Они проносятся через всю пампу, но до Ла-Платы не долетают, лишь слабое дуновение, и девочки на факультетском дворе вдыхают полной грудью пьянящий аромат цветов, на 48-й улице уже за квартал, между Пятой и Седьмой, начинаются апельсиновые деревья, и в октябре площадка перед актовым залом утопает в белых цветах, в канун экзаменов голова должна быть ясной и свежей, как чистый лист бумаги, и нельзя вдыхать сладковатый запах, исходящий от деревьев, но так хочется закрыть глаза, а откроешь — и ты уже катишь по лесу в карете, это Венский лес, пробуждаются утренние птицы, и за густой листвой встает солнце, редкие лучи его проникают в чащу, но вот налетает легкий ветерок и раздвигает кроны, и желтоватый, почти белый свет струится в просветах между темно-зелеными листьями, ночью они чернеют, а на рассвете делаются светло-зелеными. Какие они, деревья в знаменитом Венском лесу? В этом году были дожди и в Вальехосе пробилась зеленая травка, а в конце той улицы, где таверна «Единая Галисия», виден домик в зарослях дрока, но главное не домик, а два куста дрока, усеянные желтыми цветами, — сегодня утром, когда я готовила пилюли, в пробирке с хромовой кислотой сера выпала в осадок, и мне ужасно захотелось веточку дрока. Множество веток обсыпано желтыми цветками, чешка дает их только мне одной, внутри домик сверкает, как зеркало, разве сравнишь опрятную чешку или немку с какой-нибудь грязнухой испанкой? Любовь к чистоте, садоводству, рукоделию, домашние десерты из своих фруктов, а Тото ел ежевичный пирог и с набитым ртом разглядывал цветастую скатерть, вышитую крестом, посматривал то на хозяйку, то на меня и как бы говорил, что это не она нарисовала рисунок по краю, где крестьяне, взявшись за руки, прыгают, чтобы до них не долетели искры костра, пылающего посреди скатерти, огонь с прозеленью ниток и золотистыми язычками, и не огонь, похоже, а море, и волны пламенеют гребешками. Мы ходили мимо и засматривались на кусты дрока, а чешка принялась рассказывать про все болезни, какие были у нее с момента приезда в Аргентину, и не знала, чем отблагодарить, когда я пообещала ей мазь. Двадцать кварталов туда, а обратно Тото нес большой букет дрока, и я такой же, и по дороге туда Тото рассказал мне целиком «Золотые ворота», а на обратном пути собирался рассказать еще один фильм, которого я не видела, два месяца была прикована к постели, и почти каждый вечер — гости с дурацкими разговорами. О том, кто как рожал, только никому ни до чего нет дела, то-то и оно, никому и ни до чего, и все сразу забыли, будто ничего не случилось. Сегодня по дороге туда — фильм про авантюриста, который притворяется влюбленным в наивную девушку, учительницу, чтобы уехать с ней из Мексики в Калифорнию и выбиться из нищеты и зажить шикарной жизнью: войти через «Золотые ворота». А на обратном пути я рассказывала про чешские карнавальные костюмы, огонь на скатерти, еврейских магических кукол и безумных алхимиков. Он слушал, широко раскрыв глаза, и просил «еще, еще». Идеальное существо, без изъянов — вот чего добивались алхимики. Цветы дрока вместо серы в пробирке, и чистейший красный рубин для цвета крови, и капли ртути для блеска глаз, и свежее яблоко для фосфора мозга, крыло голубки для добрых чувств, и что-то для силы… толченое бычье копыто — тоже в пробирку, чтобы хорошенько отдубасить кого надо, и не удирать от врага… и сильнее всех пробить по воротам, и не падать с велосипеда с высоким седлом. Но упали, низверглись мы с заоблачных высот, пуховая пелеринка в приданое малышу, так легко витать в облаках, до звезд, и мечтать, мечтать: какое красивое будет у него личико, и люди на улице останавливают меня, чтобы им полюбоваться, и мягкие игрушки, чтобы не поранился, хочет дать ему Тото, а Берто осматривает его со всех сторон и не находит ни единого изъяна, ведь ребеночек прелестный и такой сильный и с первого удара разбивает мячом все окна в гостиной. Я думала сходить на «Золотые ворота», но в тот день меня положили в больницу, и следующую неделю Тото тоже не видел ни одного фильма, а потом решили, что ему лучше отвлечься в кино. К счастью, я не отдала Тото в интернат. Прибытие Максимилиана и Шарлотты, предзнаменование беды в дворцовом саду, расстрел и Шарлотта, отворяющая окно, чтобы впустить душу своего мужа, — все это вышло у меня прекрасно: семь фильмов уже нарисованы на картинках, мы снова начинаем коллекцию. Лучше всего получились картинки из «Хуареса», Тото положил их в стопочке сверху. Завтра он мне расскажет в сиесту «Тень сомнения», может, мы и дойдем до мельницы на большой ферме. А на обратном пути — не знаю. Раньше первыми в стопке лежали картинки из «Великого Зигфельда», название большими буквами, как на занавесе, грустная сцена у телефона и музыкальные кадры во всем великолепии: парчовые платья, огромные веера из перьев и тюлевые гардины, ниспадающие каскадом. Довела меня чертовка Тете, я все прежние картинки вышвырнула в сточную канаву, или это из-за ссоры с Эктором было? В общем, вышвырнула все в канаву, новым картинкам из «Хуареса» далеко до тех. Если Чоли узнает, что я выбросила картинки Тото, убьет меня, почему же я стала хуже рисовать? Чоли была зимой, потом Тете с родителями, а я не успела Чоли сказать, что жду ребенка, и ведь Тото ест столько овощей, фруктов и мяса, что давно уже мог бы вытянуться, как тополь, не понимаю, как Эктор смог вырасти на скудном пансионном пайке, если бы температура тогда была из-за роста, Тото уже бы подрос, напрасно я не сводила его в Ла-Плате к специалисту, конечно, под моим присмотром в бассейне он бы с инструктором научился, только кто же удержится, чтобы прийти в бассейн и не окунуться? В декабре я была на пятом месяце, в январе на шестом, меня все время мутило, в феврале на седьмом, налетел горячий ветер с песком, а в марте, если бы не начались занятия, я бы с ума сошла от их грызни. В школе какая-нибудь из этих голодранок, видно, сказала Тото, что можно убить силой мысли, он спрашивал, правда ли это и еще о дурном глазе. И все лезут свое слово вставить, никто не может помолчать, «если ребенок родился слабенький, имя сразу не давайте, а то потом будете чаще вспоминать» — уши мне прожужжали, ангельское личико, будто и не новорожденный, а большой мальчик, говорили Берто и Тото, вначале Тото не нравилось его личико, «ребенок не такой уж и красивый», сказал он мне, а я ему ответила, что это он не совсем здоров и есть еще некоторая опасность, а Тото говорит: «если он умрет, будет как в том кино „Пока смерть нас не разлучит“, когда у Барбары Стенвик умирает новорожденный младенчик», но я его успокоила, что не умрет, «а если умрет, то будет как в кино, понимаешь?» и потом: «если бы тебе дали посмотреть фильм второй раз, ты бы какой выбрала?», а я угадала, о чем он думает, и говорю: «м-м… „Великого Зигфельда“, угадала?», а он сначала сказал, что нет, но после признался: «я бы тоже „Великого Зигфельда“. Я бы, наверное, не вынесла, доведись снова смотреть „Пока смерть нас не разлучит“. У медсестры было много дел, и Тото дежурил возле младенчика на случай, если ему станет хуже, все эти дни сидел и обмахивал веером, чуть что — звал сестру, малыш, говорят, был красивый, а я из другого конца комнаты даже взглянуть на него не могла, стены в комнате бледно-кремовые, все облупившиеся, так уродливо, но еще противнее были эти вазы с искусственными гладиолусами, я заставила их вынести, сил не было терпеть самодельные бумажные цветы целую неделю, предпочитаю видеть голую стену, хоть она вся и обшарпанная, а я в дальнем углу комнаты и не могу взглянуть на него ни единого разика — матери не дают увидеть ребенка, потому что он родился с дефектом и задыхается, но ведь он красивый, весит почти пять кило, и личико у него ангельское, идеальное, а они: „лучше вам его не видеть, а то будете терзаться и вспоминать“, но я все хотела его увидеть на следующий день или в тот же вечер, если младенчику будет лучше. Берто словно предчувствовал, Тото не хотел в школу, но Берто отправил его силой, хорошо, что он это сделал, а после школы Тото зашел ненадолго и сказал, что теперь младенчик ему очень нравится, я плакала не переставая, пока рассказывала, что он чуть не умер этой ночью, затем отправила Тото на английский, и он ничего не видел, это Бог озарил Берто, про Бога я к слову, не верю, что Бог есть и что он такой, как говорят. Нынешней зимой никаких вестей от Чоли, к счастью, я не отдала Тото в интернат, все эти месяцы Чоли, поди, и не видела своего мальчика — вечно в разъездах, чтобы платить за его учебу. Носится туда-сюда со своей голливудской косметикой и даже по воскресеньям не может навестить сына. Если уж отдавать в интернат, то не в центре, а где-нибудь ближе к природе, Тото надо бы больше двигаться, „и быть подальше от твоих юбок“, говорит Берто, но тогда я бы осталась в этом году одна, и пришлось бы одной гулять в сиесту? Говорят, в интернатах вдали от родителей мальчики становятся мужчинами, и я бы осталась без моего мальчика? чтобы потом на каникулы он вернулся настоящим мужчиной? разве можно отнимать у матери ребенка и потом возвращать ей таким, каким вздумается? Злой рок может отнять у меня что угодно, теперь я это знаю, но пока возможно, я не отдам моего ребенка, не хочу, чтобы потом мне вернули здоровенного детину, который стыдится пойти с матерью в кино: вот Эктор уехал к отцу в Буэнос-Айрес, а в каникулы уже стеснялся меня целовать, в марте уезжал совсем мальчишкой, а в ноябре приехал с волосатыми ногами, в марте опять укатил, а в ноябре заявился весь в прыщах и с раздувшимся носом и снова уехал, правда, мне тогда уже было все равно, а вернулся в третий раз, и никто его не узнал — взрослый мужчина, в Вальехосе среди парней, по-моему, нет второго такого красавца, жалко, что безобразник, „стоит посмотреть ему в глаза, этот грустный взгляд, когда его никто не видит“, говорит Берто, „и сразу понимаешь, что в душе он хороший парень“, не знаю, откуда этот грустный взгляд, если он ни в чем не нуждается. Чоли будет в восторге от новых папоротников во дворе, вот бы она приехала поболтать в августе, когда все цветет, в самый разгар зимы море цветов — это каллы, от них белым-бело у стены, куда почти не заглядывает солнце, каллы в саду так разрослись, что было бы обидно не отнести букет на кладбище. Не то чтобы Эктор бесчувственный, просто он не хотел ехать на велосипеде на кладбище в зимние каникулы, когда исполнилось два месяца, а домашние цветы, по-моему, больше значат, чем покупные, и дело не в деньгах. Берто сказал: „завтра я не так занят, отвезу их на машине“, но Тото уже успел срезать каллы: „разложим их веером, как в „Пока смерть нас не разлучит“, когда они приносят цветы к кресту, врытому в землю“, и сам вот-вот расплачется, а Эктор: „брось ломать комедию“, а Тото: „это потому, что ты его не знал, и потому, что ты свинья“, а Эктор: „а ты как девчонка, ревешь и воображаешь, что ты героиня фильма“. Точно кошка с собакой, но ссоры не самое страшное, хуже, что Берто запрещает нам плакать всякий раз, как мы вспоминаем малыша, ах, куда бы поехать зимой отдохнуть? Все торчат дома, и если одному досталась ножка, другому тоже ножку подавай, а когда обед без курицы и никто не препирается, Эктор начинает: „толстый Мендес не придет сегодня на тренировку“, а Берто: „в воскресенье он играл слабо“, а Эктор: „к сестре уже два раза звали акушерку, но не успевала та прийти, как все проходило“, а Тото: „умрет у нее младенец“, а Эктор: „с чего ты взял?“, а Тото: „я сам слышал, как акушерка в аптеке рассказывала“, а я с безучастным видом: „когда это? акушерка много месяцев не заглядывает в аптеку“, а Тото: „ты готовила в лаборатории микстуру и ничего не слышала“, а я: „неправда, акушерка после ссоры в аптеку не заходит“, а Тото: „в общем, мне нельзя говорить, кто сказал, только ребенок у нее умрет!“, а Берто: „почему вы не поставите инсайдом Чубчика вместо Толстого?“, а Эктор — „Чубчик в нападении не потянет“, и я знала, что Берто за мной следит, но не могла сдержаться, ведь сколько радостей ждало нас впереди, днем и ночью я надеялась, что он выживет, днем и ночью, а Берто: „вся дикость в том, что Толстый не дает тебе пас, даже если ты в лучшем положении“, и я выбежала из-за стола, не могла больше терпеть тупую физиономию акушерки, как она смотрит и говорит, что он уже не дышит, можно было ожидать чего угодно, только не этого, правда, вечером ему стало хуже, но тогда был день, и погода наладилась, в мае бывают первые заморозки, но на солнце еще довольно тепло, как же так, говорю, как может случиться такое в три часа дня, чтобы малыш, продержавшись всю ночь, вдруг в три часа дня перестал дышать; в двенадцать я первый раз поела с удовольствием, из школы пришел Тото, и я плакала не переставая, пока рассказывала, что ночью малыш чуть не умер, но теперь ему лучше, и Тото отправился на английский, а мне очень полегчало от слез, нервы успокоились, и я, наверное, вздремнула, опять задумавшись, как его окрестить, хотя мне и говорили, что лучше не думать, если ребенок родился слабенький, а то потом буду часто вспоминать, как же его назвать? — столько всяких имен, и то мне нравилось, и это. А акушерка застигла меня врасплох, когда не осталось ни слезинки, я все выплакала от радости, думала, малыш вне опасности, и тут акушерка является в комнату, мне эта комната с самого начала не нравилась, и говорит, что ничего нельзя поделать, а я спрашиваю, что за вздор, что за несусветная чушь, а она говорит, что малыш больше не дышит. Стоит и смотрит на меня. А у меня ни слезиночки не осталось, не будет больше повода для слез, думала я, глаза и горло — все у меня пересохло, хоть цепляйся за кроватные прутья и заламывай руки; акушерка не проронила ни слова, так мне показалось, она бросилась на меня и вонзила скальпель, а я хватаюсь за прутья, боюсь дотронуться до груди и порезаться о наточенный скальпель, но сил нет терпеть ни минуты, „ничего нельзя поделать“, сказала она, войдя, и вспорола мне грудь, как заправский мясник-живодер, „потому что он больше не дышит“, прибавила она, а скальпель она, видно, взяла продезинфицировать и спрятать в стеклянный шкаф, хорошо еще, что Тото не было рядом, что он не стоял между кроватью и дверью, а то бы оказался на пути акушерки и получил рану, для мальчика рана могла стать смертельной, но когда вошла акушерка, я была одна и собиралась вздремнуть, успокоившись, я не слышала, как она вошла в три часа дня, чтобы пронзить меня зараженным скальпелем, и нет сил терпеть, рана от руки живодера, рана делается шире и шире — „не плачь“, говорит Бер-то, но рана будет болеть, пока не затянется, а вдруг она не затянется никогда? если рана не затягивается, возможно, она загноилась. Берто не дает мне плакать, если он услышит — проснется, невероятно, но в тот день я не могла плакать, ах, если бы я перед этим не пролила столько слез, думая, что мой малыш вне опасности, и ни слезинки не осталось, но Берто проснется, если я заплачу, даже этого нельзя? даже поплакать? но почему? если нет сил терпеть… ну и пусть, пусть просыпается, или пусть мы за столом, хоть поплачу, теперь я могу плакать всякий раз, как акушерка входит и говорит этот вздор, эту несусветную чушь, плакать, пока она не прекратит на меня смотреть и не уйдет из комнаты. Вскакиваю из-за стола, бегу в гостиную через весь дом, забиваюсь в самое дальнее кресло, чтобы не услышали, а Тото идет неслышно, но всхлипывания все ближе, ведь он тоже не может сдержать слезы за столом всякий раз, как вспомнит. Он садится рядом, и мы плачем, пока акушерка не перестает на нас смотреть и не уходит из комнаты. Бумажные гладиолусы я заставила убрать в первый же день, но в этой кромешной тьме за опущенными жалюзи… разве не легче заснуть, если будет чуть больше света? темная ночь и то светлее, и этот слабый свет просочится в открытые жалюзи, все лучше, чем лежать в кромешной тьме за опущенными жалюзи, а если я зажгу ночник, Берто проснется. С открытыми жалюзи станет видно комнату, мебель и можно заснуть, разглядывая что-нибудь и считая овечек, все комнаты похожи в кромешной тьме, когда совсем нет света, наутро в открытые жалюзи заглянет солнце, и в шесть уже невозможно спать, надо спать при опущенных жалюзи, еле виден беленый потолок с черным пятном сырости, очертаний горных пиков или бедуинских шатров во тьме не различишь, или кораблей, тонущих среди островерхих волн, кораблекрушение из „Поля и Виргинии“, „а кто они были?“, спросил Тото, что-то я плохо помню, как же там? очень грустная книга, из факультетской библиотеки, а если бы я читала ее и заплакала? Берто бы проснулся, от одних слез он не проснется, слезы текут бесшумно, слезы в кино, слезы при чтении „Марии“ Хорхе Исаакса, от рыданий в груди сотрясается кровать, и мужчинам легче при мысли, что они могут сдерживаться, думают, поэтому они настоящие мужчины, только настоящие мужчины могут сдерживать слезы, но это им просто по силам, а было бы не по силам, не воображали бы, что из-за этого они настоящие мужчины. Они. сдерживаются, потому что менее чувствительны. Или совсем бесчувственные? После дневных прогулок я лучше сплю ночью, за два грузовика уже уплачено, и Берто лучше спит ночью, а то много лет не мог, крики, рот открыт, уселся на кровати — проснулся от кошмара, нехорошо курить среди ночи, комната заволакивается дымом в бессонные часы, горит лампочка, еще глава, хорошо хоть заплатили за грузовики, его годы без сна, считаешь овечек, и календарные листки, и монеты по пять, по десять, по двадцать, столбиками, и чеки, векселя, расписки, от какой еще сестры? от какой свояченицы? от какого друга? того, что раньше денег не считал, а после проиграл все подчистую, а у Берто ничего не было, так на кой черт помогать этим нахалам? и летят листки календаря, расписки, векселя, а сверху столбики монет, чтобы не сдуло. На тумбочке горел ночник, сквозь сон опять шелестели газетные страницы, роман уже закончен. Наполеон, Гинденбург и все биографии Эмиля Людвига, сквозь сон легкий шорох газеты, раньше я спала крепко, и листки расписок не могли улететь, ведь Берто не засыпал, не давал им улететь. Что лучше: бессонница или кошмары? Теперь он спит, но чуть что — просыпается, „ты будешь виновата, если мальчик не поймет наконец, что мужчины не плачут, мужчины сдерживаются, но не плачут“, говорит Берто всякий раз, как мы плачем, „а ты, рева, послушай отца, чтоб я больше не видел твоих слез“, и он прав, ведь они с Эктором сдерживаются, я плачу потому, что мы, женщины, — слабые существа, а Того плачет потому, что он еще мальчик. Не помню, плакал ли Эктор, когда умерла его мать, я ему первая об этом сказала, он был еще очень мал, чтобы плакать, на год младше, чем Тото сейчас, но Тото плачет потому, что все понимает, как взрослый. Ни одного дружка не дам Эктору этим летом с собой привезти, если примутся гонять мяч во дворе, своими руками убью, упрашивать детину Эктора, чтобы сходил на кладбище, не хочет идти — не надо! а ведь там лежит его мать! мать, и дедушка по матери, и дядя Перико, и мой малыш, не знаю даже, в каком порядке они лежат, в сырой земле мой малютка, вот и все, что я знаю, ангелочек мой, там среди этих людей… один-одинешенек, в руках… ведь кто знает, что ждет нас после смерти? кто может быть уверен, что там нет страданий, что мертвецы не становятся хуже, чем были при жизни? его крепкий гробик надежно закрыт, но разве духи не проникают куда угодно? а мои ангелочек там один, с матерью Эктора, какая она была добрая, необыкновенно, но не перед смертью: после родов, когда родился Эктор, она заболела, нарушилось кровообращение, в мозг стало поступать меньше крови, а ведь была душа-человек, но перед смертью тронулась умом, сама не знала, что делает, дырявила ножницами шелковые чулки, и теперь мой ангелочек заперт с ней в одном склепе и с этим старым забулдыгой, бабником и картежником, да еще там дядя Перико, который умер от вечной злобности и издерганности, убить был готов, если чья-то шутка пришлась ему не по вкусу, так от злости и лопнул — и с ними теперь мой бедный ангелочек? кто уверит меня, что ему хорошо, что его не трогают, что эти мертвецы не… ах, довольно, не хочу думать, нет, нет, ни секунды больше не хочу думать об этом склепе, это же каземат, а внутри психопатка, старый похабник и бешеный зверь, и мой ангелочек совсем один, с ангельским личиком, Берто надел ему костюмчик для крестин, присланный в подарок из Ла-Платы, малыш был бы для Берто отрадой, с ранних лет футбол и бокс, и никаких телячьих нежностей, Берто в нем души б не чаял, в нем, а не в этом хлюпике Тото, в этой… мокрой курице, и Берто сказал, что надел ему костюмчик для крестин, а потом говорил, что ему — Берто — уже ничего не страшно и раз он не умер в тот день от горя, значит, теперь не умрет, но слезами горю не поможешь, и мне нельзя плакать, а то я ослабею и не смогу лечиться и делать упражнения, ведь специалист уверен, что курс лечения и упражнения позволят мне снова иметь ребенка, но тем временем мой ангелочек улетел, покинул меня, и я чуть не прибила Делию, эту тварь, когда она выдала, что как, мол, это грустно, что некрещеные младенцы попадают в лимб [2], а не на небо, и теперь я никогда его не увижу, вот ведь подлые твари, носятся со своим катехизисом и церковью! а спросите меня, кто самая злая и гнусная женщина в Вальехосе, кто забивает палками и морит голодом служанок, кто оболванивает их и уродует, и я сразу скажу кто: они ходят каждое утро в церковь к ранней мессе — старуха Кайвано с дочкой, две старые девы Лейва и прочие из их мафии, и не я это говорю, все знают и все говорят, завтра же заявлю в полицию на этих злодеек, которые бегут исповедоваться с утра пораньше, так они боятся умереть с кучей грехов, накопившихся за день, и пусть только эти нахалки сунутся сказать, почему, мол, я никогда не бываю в церкви — или что, попади я в рай или в ад, все равно мне не видать моего малютки, потому что он в лимбе, — пусть только сунутся, и я вырву им язык, этот лживый ядовитый язык, и как Бог дает родиться на свет таким гадюкам? — Чоли однажды зашла в гости к соседке, старой Кайвано, и видела бедную служанку, сироту из приюта, а в тот день служанка принялась кричать, что молоко убежало, хотя ничего и не убегало, и старуха поколотила ее, и вот служанка пришла к соседке рассказать, что никакое молоко не убегало, а сама смеялась довольная, смеялась, как от какой-нибудь шалости, бедолага с грехом пополам объяснила, что в тот день боялась получить взбучку, потому что старуха была не в духе, ну и наврала про молоко, чтобы узнать, побьют ее или нет, а старуха всыпала ей палкой за убежавшее молоко, хотя ничего и не убегало, но если священник слышит такое на исповеди каждый день, разве он не должен пойти и заявить в полицию? Какое там — тайна исповеди, и старуху Кайвано зовут учить детей катехизису, когда монахини не справляются! — и как только Бог допускает такое и чтобы мой малыш умер, а я не видала его личика, он был похож на ангела, и я так хотела взглянуть на него, так хотела, но потом было лучше не смотреть, он намучился перед смертью и очень изменился, ах, слишком поздно, лучше было не смотреть, так исказилось его личико. А во тьме за опущенными жалюзи ведь не узнать, что я не в Ла-Плате? до чего там хорошо, да в какой бы комнате ни оказаться, в темноте разве узнаешь? а как узнать, что стены не обшарпанные? и что Тото не раскрылся во сне? Если бы не Берто, встала бы посмотреть, не раскрылся ли Тото во сне. Нарисовать новую серию картинок про знаменитые пары? Тото хотел серию про столицы Европы и чтобы на каждой картинке была крестьянка в народном костюме, танцующая народный танец, так еще труднее, венгерская цыганка и ленты в ее волосах кружатся в вихре чардаша на фоне будапештских шпилей, которые четко рисуются в небе и размыто отражаются в водах Дуная, или у подножия Эйфелевой башни — апаш с подружкой: она откидывается назад до самой земли, а он смотрит на нее нехорошим взглядом. И про знаменитые пары, например, Ромео и Джульетта, я хочу сцену у балкона, а Тото хочет в склепе у гроба, когда Ромео умер и Норма Ширер пронзает себе грудь кинжалом, в одно мгновение разыгрывается трагедия, проснись Джульетта на миг раньше, и они были бы так счастливы, и про Максимилиана и Шарлотту, когда Шарлотта, лишившись рассудка, открывает окно венского дворца, чтобы впустить душу Максимилиана, расстрелянного в Мексике у стены одинокой хижины посреди пустыни, и про Марка Антония и Клеопатру, Тото хочет одну Клеопатру со змеей и чтобы она видела Марка Антония в мыслях, убитого в бою, — неужели придется рисовать новую серию тайком? «Что он убежал с дня рождения, когда этот дылда хотел его побить, я ничего не сказал, но чтобы удрать с английского, когда ему пригрозил Гуня, этого я не потерплю!», с тенниса Берто пришел черный от злости, «они с Гуней ровесники, его отец подошел на корте и спросил, не выдумал ли Тото эту историю, чтобы удрать с английского. И я сказал, что выдумал». После игры глаза у Берто слезятся от ветра и кирпичной пыли: «воспитываешь, воспитываешь, кто у Гуни мать? — продавщицей была в магазине, а сына, выходит, воспитала лучше тебя?», чем лучше? ну чем? надо же по справедливости, зачем говорить то, чего нет, не надо врать, не надо! Тото стоит всех мальчиков Вальехоса, вместе взятых, а стоящего человека все ненавидят, но Берто я сразу не ответила, Гуня завидует, что Тото лучший в классе, только и всего, вот и сказал, что разобьет ему морду, а Тото, наверное, испугался, подумал, что он разобьет ему лицо молотком или другим инструментом, так Берто и сказала, а он: «надоело позориться». Самое ужасное — это позориться, бедный Берто, «я скорее отрублю себе руку, лишь бы не опротестовали мой вексель, или когда брат подписал необеспеченные чеки, помнишь, что я сделал, чтобы избежать позора», сказал он вчера, заговорив о потерянных волах, вот станет побольше и изменится, скажу ему завтра, чтобы успокоился и не ломал голову над тем, сколько придется платить за интернат, станет побольше и изменится, не могу вообразить его большим, кажется, он всегда останется таким, десять лет, ах, какой большой! но даже сейчас, когда ему десять, мне порой чудится, что поглядишь на него минутку не отрываясь и уже видишь, каким он был раньше, в восемь лет, в семь, в пять, на улице нам не давали проходу, до того он был прелестный и милый, чуть вглядишься в него, и словно проступает, каким он был раньше, это как луковка, снимаешь один слой, а под ним такая же луковка, только поменьше и побелее Тото в восемь лет, когда он начал ходить на английский и тут же выучил массу стихов, и в семь лет, когда он пошел в школу и с первого месяца попал в число лучших, и в пять, раздеваешь луковичку, и каждый новый слой белее прежнего, вот он с широко раскрытыми глазами смотрит танцы в «Роберте», и в три года, и в два, все в Ла-Плате разинули рты, никогда не видели такого красивого мальчика, и вот моя луковичка стала маленькая-маленькая, уже и снимать нечего, он у меня только родился, осталась лишь почка, бутон, сердцевина луковки, сердце белое и чистое, без единого пятнышка, не младенец, а совершенство, «ангельское личико» — сказали Берто и Тото, и растет мое сердечко, наливается, вот малыш уже ходит, этакий бутуз, и говорит, голос маленького мужчины, и растет он сильный, чудный, Берто везде его водит и, вернувшись, говорит, что в Вальехосе он самый сильный мальчик, а он все растет и растет, и однажды на каникулах никто не может его узнать, это он вырос большой, как Эктор, и лицо совсем как у Эктора, и плечи могучие, как стволы деревьев, плечи Эктора, не думаю, чтобы в Вальехосе нашелся парень красивее, и весь город у его ног, и он ни в чем не нуждается, но взгляд грустный, так откуда у Эктора грустный взгляд, когда его никто не видит, если он ни в чем не нуждается? откуда у моего маленького мужчины будет грустный взгляд, если он ни в чем не будет нуждаться? его белое сердце окрасится чистейшей, как рубин, алой кровью, сердечко мое белое, а что там проглядывает в глазах моего маленького мужчины? может, в луковке осталось немного от Тото? может, Тото проглядывает в глазах моего маленького мужчины? может, поэтому мой малыш грустит, когда его никто не видит? ведь Тото знает, что на свете бывает и грустно — как мы с Тото витали в облаках до звезд и мечтали, мечтали, но упали, низверглись с заоблачных высот, и порой случаются несчастья, потому что есть злые люди, а иногда и без злых людей все порой выходит плохо, хотя каждый стремился помочь и сделать как лучше, бедный Ромео убивает себя, увидев спящую Джульетту, он думает, что она мертва, и поступает так, вовсе не желая причинить ей страданий, только от большой любви, но в этом было их несчастье, в его большой любви к ней, ах, сколько плохого случается в жизни, и почему Бог не одумается и не сделает так, чтобы свершалось одно только хорошее и чтобы Джульетта проснулась вовремя, когда Ромео собирается покончить с собой, и тогда их мечта исполнится и они будут счастливы, а что они сделают потом? заведут детей? поселятся в собственном доме? — нет, надо что-то получше, они сядут на коней, один белый, другой каурый, и поскачут далеко-далеко, ураганный вихрь подхватит их и унесет в самое красивое место на свете, туда, где никто не бывал, и никто не знает, как там красиво, и растут там неведомые цветы с необычайным ароматом, и неизвестно, что будет, если вдохнешь этот аромат, — может, обернешься цветком, и райская птица, раскинув крылья, садится и опускает клюв в самый нектар, крылья хлопают, и она взмывает высоко-высоко, унося лучшее, что есть у меня, мой нектар уносит в нежном клюве райская птица, ее пышные причудливые перья сверкают на солнце, но еще ярче сверкают они в лунном свете, и птица несет меня высоко-высоко, оттуда взору открываются наконец и поля, и леса, и реки — это буквы, которыми написано то, что я хочу знать, хочу знать больше всего на свете, реки скажут то, что я хочу знать больше всего на свете, и красное пятно на крыле райской птицы не от перьев, это она ранена, и мы постепенно снижаемся до земли, и я принимаюсь залечивать рану, рву на куски свое платье, чтобы перевязать… а в одной сказке фея вознаграждает за добрые чувства и превращает птицу в принца, это мой принц, принц-мужчина, маленький красивый принц, закутанный в пуховую пелеринку, теперь-то я знаю, что говорят реки, из них складываются буквы, а из букв — имя, которым надо его наречь, а я гляжу в вышину и вот-вот увижу самое любимое, самое прекрасное на свете, самое красивое личико, «ангельское личико» — сказали Берто и Того, а какое оно, ангельское личико? я стараюсь думать о красивом ангельском личике, но не вижу, не вижу его… «лицо у Тото — прямо как на картинке», говорит Ноли, а я не могу вообразить такое красивое лицо, чтобы посмотреть, и сразу стало ясно, что это ангельское личико, красивое-прекрасивое, не женское лицо — ангельское личико! изо всех сил пытаюсь увидеть… но в комнате кромешная тьма… если бы не бояться разбудить Берто, поднялась бы и открыла жалюзи, но в полной темноте ведь легче заснуть, неужели тайком придется рисовать новые картинки? Как из «Великого Зигфельда» у меня уже не получатся, такие никогда больше не получались, боюсь, не попросил бы Тото заново нарисовать ему «Великого Зигфельда», теперь все иначе, а вдруг в Вальехосе опять покажут «Великого Зигфельда»? Я бы сразу побежала смотреть… освежу в памяти и, может, нарисую не хуже прежних, музыкальные кадры во всем великолепии, парчовые платья, огромные веера из перьев и тюлевые гардины, ниспадающие каскадом. Нет, не получатся они, и не потому, что не хватит терпения или нервы не выдержат рисовать тайком. Ах, только бы Тото не вздумал просить меня про «Великого Зигфельда», ну почему я стала хуже рисовать?