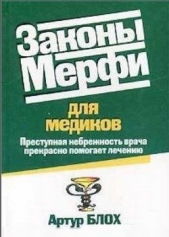Мерфи (другой перевод)
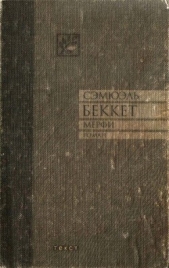
Мерфи (другой перевод) читать книгу онлайн
Роман «Мерфи», написанный Беккетом в 1938 году, еще до окончательного переезда из Ирландии во Францию, завершает первый период его творчества. «Маленький человек» Мерфи болезненно переживает агрессивность мира по отношению к себе и к человеческой личности вообще и пытается сохранить свою индивидуальность, однако попытка эта заканчивается крахом. В России роман издается впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Селия видела две в равной степени важных причины для того, чтобы стоять на своем, что она и делала. Первой было ее желание сделать из Мерфи мужчину! Да, с июня по октябрь, включая блокаду, она уже почти пять месяцев имела дело с Мерфи, а его образ как человека, умудренного жизнью, все еще продолжал манить ее. Второй — ее нежелание возвращаться к своему занятию, что определенно будет необходимо, если Мерфи не найдет работу до того, как истают ее сбережения, накопленные за время блокады. Ее отвращало не просто само это занятие, которое она всегда находила скучным (мистер Келли ошибался, считая, что она создана для такой жизни), но также то воздействие, которое ее возвращение к нему должно было возыметь на ее отношения с Мерфи.
Обе эти линии вели к Мерфи (все вело к Мерфи), но столь различным образом: одна — от опыта в зачаточном состоянии к человеку, созданному воображением, другая — от опыта во всей его полноте к реальному человеку, — что только женщина, и притом настолько… оставшаяся нетронутой, как Селия, могла придавать им равную ценность.
В его отсутствие она проводила большую часть времени, сидя в кресле-качалке, повернувшись к свету. Света было мало, комната поглощала его, но она обращала лицо к тому, что имелся. Единственное маленькое окно конденсировало его изменения — так, полуприкрыв глаза, лучше улавливаешь более тонкие оттенки цвета, — так что в комнате никогда не было ровного освещения, но весь день — ощутимое медленное колебание, то прояснение, то сгущение темноты, прояснение на фоне сгущающейся темноты, которая была уделом света. Перистальтика света, исподволь прокладывающего путь во тьму.
Она предпочитала сидеть в кресле, погрузившись в эти легкие водовороты, покуда они не окутывали плотной оболочкой ее тревогу, а не ходить по улицам (она не могла скрыть свою походку) или бродить по рынку, где неистовое оправдание жизни как цели достижения средств проливало свет на предсказание Мерфи, что зарабатывание на жизнь сокрушит одну, или две, или все три ценности его жизни. Этот взгляд, который она всегда считала абсурдным и хотела бы продолжать так считать, терял отчасти свою абсурдность при сопоставлении Мерфи с Каледонским рынком.
Таким образом, она невольно начала понимать, как только он перестал объяснять. Она не могла отправиться туда, где зарабатывают на жизнь, не чувствуя, как жизнь уплывает. Не могла она и подолгу сидеть в кресле, не ощутив шевельнувшегося в глубине, словно от утонченного порока, трепетного побуждения оказаться обнаженной и связанной. Она пыталась думать о мистере Келли, или о днях, безвозвратно ушедших, или о недосягаемых днях, но всегда наступал момент, когда никакое усилие мысли не могло противостоять ощущению погруженности в тягучий световой поток или унять дрожи тела, требовавшего, чтобы его крепко привязали.
День мисс Кэрридж имел пик, это была чашка прекрасного крепкого чая, которую она выпивала в пять часов. Случалось порой, что она садилась за стол с этим чудодейственным напитком в убеждении, что переделала все и не осталось ничего из тех вещей, что окупаются, и не сделала ничего такого, что не окупается. Тогда она обыкновенно наливала чашечку для Селии и на цыпочках поднималась по лестнице. Метода, которой мисс Кэрридж следовала, входя в чужие апартаменты, состояла в том, чтобы робко постучать в дверь снаружи через некоторое время после того, как она прикрыла ее за собой с внутренней стороны. Даже чашка прекрасного горячего чая у нее в руке не могла заставить ее соблюдать в этом деле обычные условия пространства и времени. Как будто у нее был сообщник.
— Я принесла вам… — говорила она.
— Входите, — говорила Селия.
— Чашку прекрасного горячего чая, — говорила мисс Кэрридж. — Пейте, пока не оледенел.
Так вот, от мисс Кэрридж несло — и таким амбре, что даже ее ближайшие и дражайшие так никогда и не смогли к нему привыкнуть. Она стояла, источая этот свой амбре, созерцая, как зачарованная, как выпивается ее чай. Ирония заключалась в том, что, пока мисс Кэрридж совершенно без всякой необходимости затаивала дыхание при виде пьющей чай Селии, Селия не могла затаить свое, чтобы не слышать запаха стоявшей над ней мисс Кэрридж.
— Надеюсь, вам нравится аромат, — говорила мисс Кэрридж. — Отборнейший «лапсанг-сучонг».
Она удалялась с пустой чашкой, и Селия вдыхала благоухание, исходившее от ее собственной груди. Это оказывался поистине счастливый вдох, так как мисс Кэрридж останавливалась на полпути к двери.
— Чу! — говорила она, указывая вверх.
Оттуда доносилось легкое шлепание шагов, взад-вперед.
— Старикан, — говорила мисс Кэрридж. — Никогда не знает покоя.
По счастью, мисс Кэрридж была женщиной немногословной. Когда телесные ароматы сочетаются с велеречивостью, спасения нет.
Считалось, что старикан был дворецким в отставке. Он никогда не покидал своей комнаты, за исключением тех случаев, когда обстоятельства абсолютно вынуждали его это сделать, и не позволял никому туда входить. Он забирал поднос, который дважды в день оставляла у его двери мисс Кэрридж, и, поев, выставлял его за дверь. «Никогда не знает покоя», как выразилась мисс Кэрридж, было преувеличением, но он и вправду проводил много времени, расхаживая по комнате в разных направлениях.
В накале домашней экономии мисс Кэрридж не часто случалось забыться настолько, чтобы взять и отдать чашку «лапсанг-сучонга». По большей части долгий транс в кресле продолжался непрерывно, пока не наступало время готовить пищу к возвращению Мерфи.
Пунктуальность, с какой возвращался Мерфи, была поразительна. Изо дня в день отклонения составляли буквально считанные секунды. Селия недоумевала, как это человек, имеющий во всех других отношениях столь смутное представление о времени, мог в этом единственном пункте достичь такой нечеловеческой точности. Когда она его спросила, он объяснил, что это порождение любви, не позволявшей ему пребывать вдали от нее на миг долее, чем того требовал его долг, и стремления воспитывать в себе чувство времени как денег, столь высоко ценимое, как он слышал, в деловых кругах.
По правде же Мерфи начинал возвращение столь заблаговременно, что прибывал на Брюэри-роуд с запасом в несколько часов. С практической точки зрения он не видел никакой разницы: что болтаться неподалеку от Брюэри-роуд, что болтаться, скажем, неподалеку от Ломбард-стрит. Перспективы занятости были у него одинаковы и там, и там, повсеместно, зато с сентиментальной точки зрения разница была весьма ощутима. Брюэри-роуд была прихожей Селии, в определенном настроении чуть ли не последним переходом на подступах к ее постели.
Мерфи на тропе труда был поразительной фигурой. Среди членов Лиги Блейка прошел слух, будто ожила идея Учителя относительно Вилдада Савхеянина и бродит по Лондону в зеленом костюме в поисках кого бы утешить.
Но что такое Вилдад, как не сколок с Иова, так же, как Софар и прочие — сколки с Иова. Единственное, чего искал Мерфи, это то, чего он непрерывно искал с момента, когда посредством удушения ему открыли дыхание — лучшего в себе. Лига Блейка пребывала в полнейшем заблуждении, полагая, что он выжидает qui vive [23] кого-то, достаточно несчастного, чтобы утешиться каким-нибудь сократическим софизмом вроде: «Как он может быть чист, раз родился?» В полнейшем заблуждении. Для сострадания Мерфи не требовалось иного объекта, кроме себя.
Его невзгоды начались в самом раннем возрасте. С vagitus — чтобы не углубляться дальше — он разошелся с положенным «ля» согласно международному концертному стандарту высоты тона при 435 двойных колебаниях в секунду, издав его с двойным бемолем. Как поморщился, заслышав его, честный акушер, благочестивый член Дублинского оркестрового общества и любитель-флейтист не без своих достоинств, с какой скорбью записал он, что из всех миллионов крошечных глоток, которые в унисон шлют проклятия в данный момент, фальшивила лишь одна — глотка младенца Мерфи. С vagitus, чтобы не углубляться дальше.