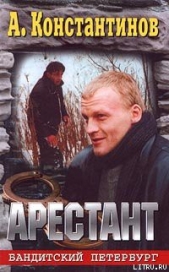Из жизни одноглавого. Роман с попугаем

Из жизни одноглавого. Роман с попугаем читать книгу онлайн
Новый роман Андрея Волоса рассказывает о происшествиях столь же обыденных, сколь и невероятных. Однако в самом нашем мире невероятность настолько переплетена с обыденностью, что приходится заключить: при всей неожиданности образа главного героя и фантасмагоричности описанного, здраво взглянуть на окружающее, чтобы дать ему истинную оценку, можно, пожалуй, только под тем необычным углом зрения, который выбран автором.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Светлана Полевых покивала с загадочно-мечтательной улыбкой и сказала:
— Здорово… Наверное, вы много написали?
— Достаточно, — сдержанно отозвался Милосадов.
— И, наверное, все песни такие же хорошие?
Милосадов насторожился.
— Что вы имеете в виду? — вкрадчиво спросил он.
— «В лесу родилась елочка…» — тоже ваша?
Я чуть не захлопал крыльями от восторга.
Светлана продолжала чарующе улыбаться. Не знаю, какой оборот получили бы события, но в эту минуту в зал заглянул Петя Серебров.
— Здравствуйте, Виктор Сергеевич, — сказал он. — Мы собрались.
— Отлично! — весело и живо ответил Милосадов, резко поворачиваясь к нему. Появление Пети он расценил как счастливую соломинку, за которую тут же уцепился. При этом я буквально видел, как под костями его черепа шевелятся извилины: уцепиться-то уцепился, но, похоже, не мог сообразить, кто это такой и чего хочет. Однако, как всегда, нашел вопрос, ответ на который, сам по себе не имеющий никакого значения, помог бы определить место в происходящем: — Давно?
— Зачем давно? — удивленно переспросил Серебров. — Семинар же в семь?
— Ну, разумеется, в семь, — сказал Милосадов, овладевая ситуацией. — То есть все готовы?
— Готовы, — кивнул Серебров. — Одиннадцать поэтов. Есть, правда, пара-другая прозаиков. Но Калабаров их всегда пускал, потому что они тоже иногда пишут стихи.
Физиономия Милосадова окончательно просветлела.
— Светлана, вы ведь тоже любите поэзию? — спросил он как ни в чем не бывало. — Приглашаю вас на поэтический семинар.
Между тем Светлана Полевых во все глаза смотрела на долговязого поэта Сереброва, и разрази меня гром, если в это мгновение мне не почудился какой-то мелодичный звон — как будто кто-то невзначай коснулся серебряного колокольчика.
***
Расселись там же, где всегда — в маленьком зале. Почти всех я знал. Валерий Малышев, Оля Клочкова, Фима Крокус, Николай Дворак, Вася Складочников, Вероника Ртищева… Был и незнакомец — круглощекий юноша в замшевой куртке, с папочкой в одной руке и авторучкой в другой, что делало его похожим на продавца канцтоваров.
— Здравствуйте, здравствуйте, — сказал Милосадов, садясь. — Думаю, мне следует сказать несколько слов о себе. Милосадов Виктор Сергеевич. Кандидат филологии. — Я буквально подпрыгнул на жердочке, но все-таки решил дождаться завершения этой лживой речи. — Стихи пишу, разумеется… Какой русский интеллигент не пишет стихи? Это же просто смешно, если интеллигент не пишет стихи.
Серебров и Крокус недоуменно переглянулись: должно быть, оба ждали родительного падежа. Но не дождались.
— Ну и хватит пока, давайте к делу, — сказал Милосадов, хмурясь. — Как вы обычно строили работу?
— Вообще-то должны были Витю Бакланова обсуждать, — сказал Петя. — А тут такое… Но мы приготовились. Оппоненты рукопись прочли, да и так она по рукам походила. Ты сколько экземпляров раздал? — спросил он, поворачиваясь к Бакланову.
— Шесть… или семь даже, не помню, — ответил Бакланов тем низким голосом, какой обычно называют замогильным. — Навалом было экземпляров, всем хватило.
— Все прочли? — уточнил Петя, озираясь.
— Все! — загалдели семинаристы.
Светлана Полевых, нашедшая себе местечко на стуле у двери, заинтересованно озиралась. Я отметил, что Милосадову ее интерес явно не нравился, — он недовольно сморщился и отвернулся.
— Так вот я и говорю, — сказал Петя, обращаясь к Милосадову. — Может быть, так и сделаем? Обсудим Бакланова, если уж собирались… Только знаете что. — Он поднялся во весь свой немалый рост. — Давайте сначала почтим память Юрия Петровича Калабарова. И пусть наш семинар будет ему памятником.
Загремели стулья, семинаристы поднялись, опустив головы. Встал и Милосадов. Было слышно, как тренькает под потолком люминесцентная лампа.
— Вечная ему память, — сказал Петя Серебров. — Прошу садиться…
Сели.
— Ну хорошо, — пожал плечами Милосадов. — А в какой форме вы проводите обсуждения? Я в каких только семинарах ни участвовал — и у всех, знаете ли, по-своему.
— У нас просто, — начал разъяснять Петя. — Сначала автор говорит два слова о себе и читает корпус (я заметил, что у Милосадова дрогнули брови; но он, как всегда, не подал виду, что поплыл). Потом выступают оппоненты. Их два. Они самым внимательным образом изучили корпус представленных стихотворений (Милосадов снова двинул бровями: поймал, стало быть, смысл незнакомого прежде слова и теперь уж покатит его направо-налево, не остановишь). Излагают свои позиции. После этого семинаристы высказываются… Ведь кое-кто, если не удалось помолоть языком, считает день потраченным впустую…
— Ты сам поговорить мастак, — обиженно сказал златоуст Фима Крокус, признав тем самым, что камушек летел в его огород.
— Ладно, ладно, какие счеты… В общем, обычно у нас все хотят сказать. Потом руководитель — вы то есть — подводит итог. А уж самым последним слово опять получает автор. — Петя взглянул на угрюмо глядящего в пол Бакланова и решил для верности разъяснить: — Уже не читать, конечно, а просто чтобы поблагодарить за внимание. Реверансы всякие сделать… а никого ни в коем случае не ругать и правоту свою поэтическую не отстаивать… Да, Витюш?
— Да, — утробно продудел Бакланов.
— Ну что ж, — покивал Милосадов. — Тогда прошу.
Бакланов вышел на середину.
— О себе… да что о себе, все обо мне знают… Однажды в поезде ехал… мужик один. Как, говорит, фамилия. Я говорю: Бакланов. Поэт? Да, отвечаю, поэт. Он чуть с полки не упал. Зарылся в подушку, всю дорогу причитал: «Сам Бакланов! Сам Бакланов!..» В общем, о себе мне говорить — только время тратить. Лучше читать буду…
И стал читать.
Невысокого роста, сутулый, он смотрел исподлобья, что в сочетании с кривым вислым носом оставляло довольно мрачное впечатление. При завершениях строк Бакланов производил неприятные громкие завывания наподобие волчьих и вращал глазами, а многие звуки вылетали из него скорее чавкающими, нежели шипящими. Вдобавок он то и дело совершал неожиданные и резкие жесты, каждый из которых вызывал тревожные мысли о том, не вопьется ли он сейчас крючковатыми пальцами в горло кого-нибудь из ценителей поэзии, слушавших его с явной опаской.
Я хорошо помнил эффект, неизменно производимый его стихотворением «Змеи». Речь в пиесе шла насчет того, что лирический герой, предаваясь в весеннем лесу мечтаниям любви, едва не свалился в яму с гадюками. Сила искусства поэта Бакланова была такова, что всякий раз какой-нибудь девушке становилось плохо.
В этот раз все обошлось, только Светлана Полевых, я видел, несколько позеленела и стала обмахиваться ладошкой.
В заключение поэт Бакланов прочел стихи о клинической смерти. Мне запомнились строки «Ты не взяла меня, косая!» и «Твои фальшивые туннели!..»
Когда чтение завершилось, слово перешло к первому оппоненту. Это был Фима Крокус, и на протяжении его речи я сполна получил то удовольствие, к которому заранее приготовился.
Не говоря худого слова, Фима Крокус выявил в представленных опусах массу неисправимых пороков и подверг резкой критике всю художественную систему автора. Скрупулезному и жесткому разбору подверглись как принципы построения стихотворений в целом, так и отдельные их художественные составляющие. Качество рифмовки было признано совершенно неудовлетворительным, сравнения — натянутыми. Приличный эпитет, как заявил оппонент Фима, в стихах Бакланова и не ночевал. Кажется, то же самое он был готов высказать и обо всех прочих тропах, независимо от того, использовал их поэт Бакланов или нет.
Единственным, на его взгляд, отрадным исключением являлось стихотворение, в котором автор описывал обстоятельства пережитой им некогда клинической смерти. Фима Крокус счел необходимым отметить, что и здесь можно обнаружить отдельные недостатки, однако разбирать их значило бы заниматься пустыми придирками, ибо ни один из имеющихся огрехов не может повредить высокой правдивости, коей текст дышит от начала до конца. Несомненным доказательством этого, на его взгляд, являлся тот факт, что когда он сам переживал клиническую смерть, то видел точь-в-точь то же самое.