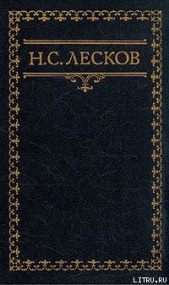Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы
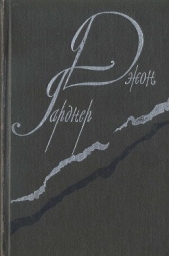
Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы читать книгу онлайн
Проза Джона Гарднера — значительное и своеобразное явление современной американской литературы. Актуальная по своей проблематике, она отличается философской глубиной, тонким психологизмом, остротой социального видения; ей присущи аллегория и гротеск.
В сборник, впервые широко представляющий творчество писателя на русском языке, входят произведения разных жанров, созданные в последние годы.
Послесловие Г. Злобина
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Джон Нэппер бывал здесь на вечерах прежде, чем дом стал зваться «Инвернесс-Корт». Отель обслуживали ирландские веселые слуги — приятели нашей Люси, деловитые ирландочки-администраторши и официантки в ресторане, а хозяин был пузатенький, как голубь, с курчавой черной шевелюрой. Мы сели за столик на бывшей сцене, девушка у стойки выключила телевизор — какой-то американский детектив, — и мы стали играть, как играли когда-то в доме Джона, в южном Иллинойсе. Хозяин поставил нам выпивку и запел. То непристойные, то нежно-жалобные песенки о любви и смерти…
— Прелесть! — повторял Джон. Мои очки затуманились от слез. В баре было уже до отказа полно ирландцев. Они пели в полумраке, играли на жестяных свистульках. Я спел две валлийские «заплачки» о погибших в обвале шахтерах, о моряках, взывающих со дна морского. Ирландцы вежливо слушали. Джон запел старую американскую песню про Хайрема Хаббарда, которую он слышал в Америке. Под конец его голос становился все тише и тише, а когда дошло до казни — «И от тела его не осталось ничего», — ирландцы заплакали. Кто-то заговорил о Белфасте. Там теперь полиция людей стреляет… Мы снова стали играть, но ирландцы уже не пели. Они смеялись, перебрасывались остротами, как дротиками. Было совсем поздно, два часа ночи, петь уже было запрещено. Ирландцы стали понемногу расходиться, и моя Джоанна повела наших сонных ребят наверх. Администраторша-ирландка была возмущена и ошеломлена. Джон Нэппер улыбался, уставясь на столик, и только изредка повторял: — Поразительно! — Я проводил его до дверей и смотрел ему вслед, пока он шел — величественный старый великан в развевающихся лохмотьях — ловить машину, черное, похожее на катафалк, такси. На углу Бейсуотер-роуд он остановился и помахал огромным футляром с гитарой — седые волосы, похожие на лучи солнца, дробящиеся на белых гребнях волн — как бывает во сне, — помахал и ушел из-под фонаря в темноту.
Я работал над эпической поэмой, историей Ясона. Нелепая затея, но ведь пишешь то, что диктует вдохновение — в ответе ли оно за это или нет. Я решил зайти с Поэмой к Джону Нэпперу. Я знал: когда он пишет, он слушает музыку, радио, что угодно, чтобы отвлечься.
Он сразу пришел в восторг, в упоение — куда тут было читать ему!
— Эпос! — повторял он. — Чудесно!
Мы стали вспоминать, давно ли был написан последний эпос. Он стал рассказывать мне о Тэйн-Бо-Куалинге, о Рамаяне, о Мабиногионе. Он рассказал мне, что Панч — из «Панча и Джуди» — произошел от Шивы, бога разрушения, от индийского слова «панч», что значит «пять», то есть пять чувств. Около полудня явилась его бывшая ученица, девушка, с которой он занимался в Париже. Она восторженно рылась в его старых и новых работах, восторженно и подробно рассказывала о своей жизни. Он сиял, слушая ее. Он расспрашивал об их общих знакомых — кто развелся, кто помер, — и мы все пили чай, вино, виски (виски пил я). С нелепо величественным жестом в мою сторону он ей сказал, что я пишу эпическую поэму, какой не было тысячу лет. Она была потрясена.
— Тебе непременно надо послушать! — сказал он.
Она растерялась:
— А она очень длинная?
— Она очень длинная, Джон?
— Очень, — сказал я.
— Чудесно! — Он наклонился, захлопал в ладоши. — Расчудесно!
Девушка явно заинтересовалась и, как мне показалось, заинтересовалась всерьез, но становилось поздно, времени осталось мало.
— Хоть немножко послушай! — сказал Джон Нэппер.
Но тут явился еще гость — тот самый американец, которому Джон оставил свою мастерскую в Париже. Он стоял в дверях, улыбаясь во весь рот, подергивая себя за усы. Джон бросился к нему, расцеловал и тут увидел за спиной мужа его маленькую, почти бесплотную жену (она болела и после этого очень похорошела). Джон и ее расцеловал. Они сияли как ангелы.
— Полина, — крикнул Джон наверх, — ты не поверишь! Поди сюда! — Он заставил гостей спрятаться, чтобы она еще больше удивилась. Полина вскинула руки, наклонила голову — как в китайском танце — и заулыбалась.
Я снова пришел к нему на следующий день, и в этот раз мне удалось почитать ему вслух. Он искренне радовался. Он слушал с удовольствием, писал быстро, вдумчиво, расставив босые ступни, длинные, как лопаты. Когда я кончил, он заговорил о Хольмане Ханте, о том, что музыка «биттлзов» совершенно такая же, говорил о Пикассо, об этом надутом старом осле, о том, что все его работы напоминают ему торжественную речь президента Рузвельта. Меня пробирала веселая дрожь (и не только от выпитого виски). Я слушал его, переводя взгляд с одной картины на другую. Зловещие, самоубийственные — старые работы, большие, яркие — новые. Среди них — портрет Люси, только сейчас возникающий на мольберте: Люси среди цветов. И вдруг я похолодел.
На стене висел огромный темный морской пейзаж. Для Джона это была проходная работа. В ней сквозило что-то от Тернера — иллюзия движения, мутный воздух, свет сквозь облака, едва намеченный силуэт корабля в огромном море и небе. Корабль терпел бедствие. Вселенная клубилась. Я вспомнил рассказ Джона о том, что Тернер жил двойной жизнью — две разные жизни, две разных жены. В одной жизни он был капитаном, морским волком, в другой — прототипом диккенсовского Скруджа, хотя на самом деле был тайным филантропом.
Среди прелестных цветов с прелестного лица моей дочери глаза глядели настороженно-расчетливо.
В тот вечер Джон сказал:
— Нравится мне, что у кельтов бог поэзии — кабан. — При этом слове он сморщил нос и вдруг стал поразительно похож на кабана.
— Кабанам понятны разговоры ветра, — сказал я.
Он усмехнулся, довольный.
— Да, да, им все понятно. — (Мы с ним знали одни и те же старые легенды.) — Но мне другое нравится. Художники-то и впрямь свиньи. Вот что мне по сердцу. Когда я был молодым… — Он снова сморщил нос, невыразимо божественно возмущенный своей молодостью. — Для меня старость — радость именно потому, что можешь работать без перерывов на всякие безобразия — на блуд и бесчинство. — Сказал и обрадовался.
Я налил еще виски из бутылки, купленной им. Купил он ее для меня — Джон Нэппер совсем не пил, когда работал, да и в другое время пил очень мало. Даже пиво пил совсем редко, не то что все ирландцы. Сегодня, когда он был трезв, я пил и за него тоже. (Равновесие важнее всего.) Я посмотрел на большое полотно — прислоненную к стене новую картину. Полина среди цветов. Хорошая работа, человеку помоложе так не написать. Картина была многоплановая — не от меняющейся глубины перспективы, а от чего-то иного. Женщина сидит у дерева, на холме везде цветы, птицы, блики, тени. Она глядит — до странности похожая на сидящие статуи египетских гробниц — в долину, во внезапный просвет, затененный и смутно-таинственный, словно вздох в пространстве. Все на картине, каждый проблеск света, движется, растет, расступается у тебя на глазах. Женщина даже дышит — оптическая иллюзия, такой у нее узор на платье. И в центре всего этого радостного движения, угасающего в совсем нерадостной тени, ее лицо парит в абсолютном покое, в святости.
— Я вас понимаю, — сказал я и улыбнулся.
Он улыбнулся в ответ, выжидая.
В поэтическом опьянении я стал понимать очень многое. В своих парижских картинах он дошел до края пропасти, борясь за свою жизнь, как свекольный сок выжимая до последней капли кровь из сердца мира, стараясь постичь его тайны, — и ничего не нашел. Он бросался в погоню за светом, не только зримым светом, напрягая все мышцы души и тела, добираясь до истинной реальности, до абсолюта, искал красоту, увиденную не чужими глазами, но честно найденную им самим, а нашел всего лишь черный провал. И его жена видела то же самое. Ее мозаика становилась все темнее, стала мрачной, как и его работы, а может быть, еще мрачнее. Но тут, на краю гибельного самоуничтожения, Джон Нэппер отпрянул от пропасти, я это видел. Теперь он воссоздаст мир из ничего. Да будет свет, райские кущи! Он начертит карты островов сокровищ. И поверит в них. Да как он мог не поверить, видя, как стали светлеть грустные глаза его жены? Какое величие! И какая бессмыслица.