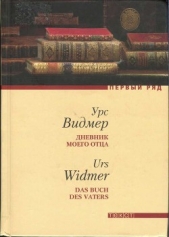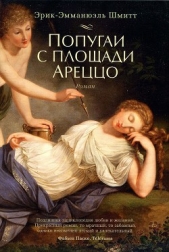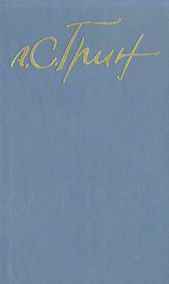Секта эгоистов

Секта эгоистов читать книгу онлайн
«Секта эгоистов» — первый опыт Шмитта в области крупной повествовательной прозы. «Роман, который скрывается по мере того, как в него вчитываешься, — писал о „Секте эгоистов“ Рене Матиньон. — Роман, который рассказывает, как его не было, ускользает и обманывает, творит себя из этого обмана. Книга посвящена книге, которой не существует в мире, где только книги и существуют…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Распалившись от совместного действия на организм пищеварения, струившегося в жилах вина и истинно галльского оборота, который принимала беседа, мы уже предвкушали приятное завершение нашего вечера, как и каждую субботу, в Пикардийском тупике, в доме 39, в объятьях веселых и нежных красоток, которым затем будет стоить немалых трудов нас разбудить. Короче говоря, превосходнейший вечерок.
В тот вечер милейший Ламбер, нотариус из Сен-Мало, представил нам своего юного письмоводителя. В ходе ужина кандидат показал себя достойным тех надежд, которые на него возлагались, по достоинству ценя блюда, вина и беседу, радуясь нашим дружеским колкостям и печалясь нашим желудочным коликам, с явной завистью слушая рассказы о наших шалостях и при этом ни разу не выйдя из границ робкой и исполненной восхищения сдержанности, которую так ценят в молодежи люди зрелые. Однако в конце ужина, когда подавали кофе, я приметил, что наш юный друг помрачнел.
Когда же мы перешли к ликерам, он, воспользовавшись передышкой между нашими лихими речами, важно произнес, следя глазами за клубами сигарного дыма, плывущими из его губ:
— С вами очень славно, господа, но всякий раз, как я бываю счастлив, я задаюсь вопросом, не сон ли все это. Как сказал поэт:
Полудремотное состояние, в котором обычно пребываешь после ужина, в сочетании с ощущением блаженного онемения членов придали необычайный вес его словам. Признаюсь, в этот миг я и сам не решился бы утверждать, что действительно бодрствую. Молодой человек дал молчанию сгуститься; внимание наше было привлечено, хотя мои отяжелевшие веки норовили сомкнуться вопреки моей воле. Инженер Годар голосом, прозвучавшим приглушенно и словно издалека, попросил юношу продолжать.
Письмоводитель помолчал, переводя взгляд на каждого из нас по очереди:
— Где доказательство, доктор Мален, что вы находитесь именно здесь, а не у себя дома, в вашем кресле или в постели? Убеждены ли вы, господин инженер Годар, в том, что действительно пьете, курите и шутите с вашими друзьями, а не видите все это во сне? Конечно, вы можете прикоснуться к нам, ответите вы мне, и даже ущипнуть самого себя, однако же в театре наших ночей мы точно так же осязаем, обоняем и ощущаем вкус, как и днем, мы уверены, что мчимся в настоящих экипажах, скачем на настоящих лошадях, жуем настоящее мясо и целуем настоящих женщин; и все же утро убеждает нас, что то были лишь пары нашего воображения. Но что если и самое наше пробуждение нам тоже только снится? И пробуждаемся ли мы вообще когда-нибудь?…
Он вдруг замолчал, словно пораженный какой-то новой мыслью, явно причинившей ему боль. Только сейчас я обратил внимание на то, что сей молодой человек с повадками провинциального щеголя был, в сущности, весьма хрупок и на бледном его челе явственно читалась болезненная нервозность. Горькая складка пролегла у его губ, и взгляд его темных, лихорадочно блестящих глаз, узких, как бойницы, казалось, был устремлен в пропасть.
Мы попросили его говорить еще, отчасти из вежливости, отчасти из жалости, главным же образом потому, что он окончательно остудил наш веселый пыл. Я чувствовал, как во мне невольно зарождается интерес к этим странным рассуждениям.
— Расскажите же нам вашу историю.
Он поднял глаза, и нам показалось, что он словно читает в глубинах самого себя.
— Я провел всю жизнь в бретонском замке, почерневшем и мрачном, возвышающемся на скале над морем и обращенном в бесконечность. Лангеннеры испокон веков рождались и умирали здесь. Угрюмая дикость этих мест неизменно обессиливала нашу волю и вливала в наши сердца ужасную отраву: мы проводили время в метафизических умствованиях, которые заканчивались только вместе с жизнью. Подобный темперамент не мог способствовать появлению в нашем роду личностей выдающихся, и лишь одному из моих предков удалось, в минувшем столетии, возвысить свое беспокойство до степени гениальности…
Он налил себе коньяку, словно в надежде обрести силы и мужество для продолжения рассказа. Мы машинально последовали его примеру. Он откинулся на спинку кресла и, казалось, вновь устремил взор на невидимые нам страницы собственной души. Рассказ обещал быть долгим.
— Предок мой Гаспар прибыл из Нидерландов. Вся наша семья в начале семнадцатого столетия обратилась в протестантскую веру, однако, когда притеснения протестантов со стороны католиков стали невыносимы, предкам моим пришлось сделать окончательный выбор между двумя религиями; из предосторожности почти все они предпочли для видимости возвратиться в лоно прежней своей, католической, церкви, за исключением именно Гаспаровых родителей, которые сделке с совестью предпочли изгнание и, насколько мне известно, до самого конца своих дней жили как истинные протестанты. Итак, они покинули родину и обосновались в Голландии. Они сменили свое имя «де Лангеннер» на «ван Лангенхаэрт», сколотили весьма приличное состояние и произвели на свет сына. С годами переписка между родственниками, которых отныне разделяло не только расстояние, но и религия, становилась все более и более редкой.
Каково же было удивление бретонцев, когда году этак в тысяча семьсот двадцатом, после почти пятнадцатилетнего отсутствия каких бы то ни было вестей, они получили письмо от племянника, которого никогда в глаза не видели. В этом письме он уведомлял их о кончине родителей, о скором своем приезде, а главное — о намерении окончательно обосноваться на родине предков.
Новости об этом свалившемся с неба родственнике доставили бретонской родне огромную радость. Письмо возвещало прощение и примирение, а также, надо признаться, вселяло надежду на то, что блудный племянник привезет с собою золото, нажитое его родителями, в то время как наша семья уже начинала испытывать нужду, в которой пребывает и поныне.
И наступил день, когда блудный племянник явился. Вся семья встречала его на ступенях перед замком.
Когда он вылез из фиакра, все были поражены его красотою. По единодушным свидетельствам родственников, то был один из самых красивых мужчин, когда-либо ступавших по земле. Судя по сохранившемуся портрету, он был высок, строен, черты лица его дышали мужественностью, тонко очерченный нос благородной линией спускался от высокого лба к тонкому рту. При виде его мужчины испытали чувство фамильной гордости, а женщины, напротив, едва не лишились чувств. Воссоединение семьи обещало быть исполненным тепла.
Однако никаких родственных излияний не последовало. Гость не обратил ни малейшего внимания на собравшихся и отверз уста лишь для того, чтобы попросить первого, кто оказался перед ним, тотчас же проводить его в предназначенную ему комнату, где он попытается отдохнуть от тягот путешествия. Все засуетились, кинулись наперебой показывать ему комнату, стремясь доставить гостю удовольствие кто любезными словами, кто каким-нибудь семейным преданием, кто шуткою, однако все было тщетно: он ничего не слышал и никого не видел. Оказавшись в своей комнате, он, даже не оглядевшись, бросился на постель и немедленно уснул. Его оставили одного.
Радость испарилась, однако в этом еще не решались признаться даже самим себе. Все ждали ужина, и постепенно прекрасная половина обитателей замка вновь обрела надежду, и кто-то уже завязывал новую ленту, а кто-то взбивал кудри, ибо все-таки кузен был необыкновенно хорош собою. Тремя часами позже его уже жалели, виня во всем дорогу, сломанную ось, жару, перемену климата, и все надежды, связанные с радостью встречи, объятиями и трогательными воспоминаниями, возлагались на ужин.
Стол был изобилен, и в меню значилось четыре перемены мясных блюд. Наконец Гаспар спустился в столовую. И все получилось еще хуже, чем днем. Он ни к кому не обратился с приветствием и на протяжении всей трапезы раскрывал рот лишь затем, чтобы отправить туда очередной кусок, что, впрочем, делал весьма охотно и многократно, но без единого слова благодарности. Расправившись с последним блюдом, он допил свой стакан и, прервав на полуслове речь Жан-Ива де Лангеннера, безуспешно пытавшегося уже в который раз завести разговор за столом, все так же безмолвно удалился.