Записки кинооператора Серафино Губбьо
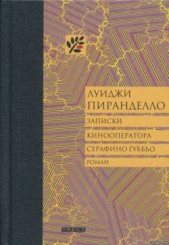
Записки кинооператора Серафино Губбьо читать книгу онлайн
«Записки кинооператора» увидели свет в 1916 году, в эпоху немого кино. Герой романа Серафино Губбьо — оператор. Постепенно он превращается в одно целое со своей кинокамерой, пытается быть таким же, как она, механизмом — бесстрастным, бессловесным, равнодушным к людям и вещам, он хочет побороть в себе страсти, волнения, страхи и даже любовь. Но способен ли на это живой человек? Может ли он стать вещью, немой, бесчувственной, лишенной души? А если может, то какой ценой?
В переводе на русский язык роман издается впервые.
Луиджи Пиранделло (1867–1936) — итальянский драматург, новеллист и романист, лауреат Нобелевской премии (1934).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Луиджи Пиранделло
Записки кинооператора Серафино Губбьо
ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ
I
Я наблюдаю за людьми в их самых обычных проявлениях, за обычными занятиями в надежде отыскать хоть в ком-нибудь то, чего нет у меня — что бы я ни делал, чем бы ни занимался, — а именно уверенности в том, что они понимают, что делают. Поначалу мне кажется, да, у многих такая уверенность есть, судя по тому, как они обмениваются взглядами, как здороваются, торопясь по делам или мчась в погоне за прихотями. Но потом, стоит присмотреться внимательнее и заглянуть им поглубже в глаза пристальным и молчаливым взором, как их лица тускнеют, словно на них накатила тень. Другие, наоборот, приходят в такое замешательство и беспокойство, что, кажется, не прекрати я сверлить их взглядом, они бросятся на меня с потоком проклятий или, чего доброго, кинутся и растерзают на куски.
Да вроде нет. Все хорошо, все спокойно! Ну что ж, вперед… Мне довольно этого: знать наверное, господа, что вам и самим далеко не ясно и отнюдь не бесспорно даже то малое, что постепенно возникает и определяется столь привычными для вас условиями жизни. Во всем есть свое «за», то, что лежит за пределами видимого. Вы либо не хотите, либо не умеете его разглядеть. Однако стоит этому запределью на миг приоткрыться перед таким праздношатающимся, как я, который останавливается поглядеть на вас, как вы сразу теряетесь, впадаете в беспокойство или же начинаете сердиться.
Разумеется, мне знакомо внешнее, я бы сказал — механическое устройство жизни, которое, грохоча, заставляет нас крутиться, доводя до состояния дурноты. Сегодня то и вот это, сегодня надо сделать и то, и се; нестись, поглядывая на часы, сюда, чтобы не опоздать и вовремя поспеть туда. Спасибо, приятель, но извини, опаздываю! — Да ты что, неужели? Везет тебе! А я вот должен бежать… — Завтрак в одиннадцать… Газета, портфель, контора, школа… — Как жаль, ведь чу́дная стоит погода! Но дела, дела… — Кто едет? Ах, катафалк! «Пусть земля ему будет пухом…» и бегом дальше. — Лавка, фабрика; суд…
Ни у кого нет ни времени, ни возможности остановиться хотя бы на миг и задуматься: а действительно ли то, что делают другие и что делаешь ты сам, тебе необходимо и вселяет уверенность — твердую, окончательную, без дураков, которая только и может дать отдых и покой? Покой и отдых, которые нам предоставляются после всего этого грохота и кутерьмы, до того утомительны, до того одурманены тупой беготней, что и отдыхая невозможно расслабиться и подумать. Одной рукой мы хватаемся за голову, другую вскидываем с жестом пьяного мужика:
— Повеселимся! Развеемся!
М-да. Куда тяжелей и сложней работы все те развлечения, которые нам подсовывают, оттого мы и отдыхая устаем еще больше.
Наблюдаю за женщинами на улице — как одеты, какая походка, что за шляпки; за мужчинами — как выглядят либо хотят выглядеть; прислушиваюсь к их разговорам, узнаю о намерениях, устремлениях, и порой кажется, что все это дурной сон, до того трудно поверить в реальность того, что я вижу и слышу, ибо, не будучи в силах поверить, что все это говорится и делается в здравом рассудке, а не просто из шутовства, я спрашиваю себя, а не довел ли вертящийся, грохочущий механизм жизни, от которого голова идет кругом и к горлу подступает тошнота, не довел ли он человечество до той степени безумия, что скоро оно сорвется и сметет все к чертовой бабушке? Хотя в конечном счете от этого, может, была бы только польза. Но какая польза и в чем бы она состояла? Да в том хотя бы, чтобы поставить жирную точку и начать опять все сначала.
Мы пока еще не дожили до того, что, по слухам, творится в Америке, — там зрелище вообще бесподобное; в тамошнем круговороте жизни люди падают замертво прямо за работой, как подкошенные, как молнией пораженные. Но, с Божьей помощью, и мы скоро доживем до того же. Мне известно, что здесь многое готовится. Дело не стоит, дело движется! И я скромным образом являюсь одним из служащих, занятых на тех работах, которые готовят нам большое увеселение.
Я оператор. Но быть оператором в том мире, в котором и за счет которого я живу, вовсе не значит оперировать, то есть действовать.
Я не действую, ничем не оперирую.
Я устанавливаю штатив на трех выдвижных ножках, на нем — камеру. Помощники, один или двое, по моим указаниям отмечают на ковре либо на дощатой платформе мерным шестом и голубоватым мелком границы поля, в пределах которого должны двигаться актеры, чтобы вся сцена была полностью в фокусе.
Это называется очертить поле действия.
Очерчиваю его не я, а другие: я только предоставляю в распоряжение кинокамеры свой взор, чтобы она указала ту крайнюю точку, предел, дальше которого она не в состоянии ничего уловить.
Когда сцена подготовлена, режиссер размещает на ней актеров, подсказывая им, что и как надо делать.
Я справляюсь у режиссера:
— Сколько метров?
Режиссер, в зависимости от продолжительности сцены, говорит мне, какое примерно количество пленки потребуется, и далее дает команду актерам:
— Внимание, мотор, снимаем!
Я запускаю в ход машинку, начинаю вертеть ручку.
Я бы, конечно, мог вообразить, что это я, вращая ручку, заставляю актеров двигаться — наподобие шарманщика, который, тоже вращая ручку, заставляет музыку звучать. Но я не поддаюсь ни той ни другой иллюзии, я всего лишь кручу себе ручку до тех пор, пока не закончится сцена. Потом смотрю в аппарат и докладываю режиссеру:
— Восемнадцать метров.
Или же:
— Тридцать пять метров.
И только.
Однажды подходит ко мне какой-то господин полюбопытствовать:
— Простите, а не придуман еще способ, чтобы ручка вертелась сама?
Как сейчас вижу его лицо: худое, бледное, белокурые редкие волосы, пронзительные голубые глаза; бородка клинышком, желтоватая, за нею он прятал улыбку, которой полагалось быть кроткой и милой, а она была лукавая. Ибо своим вопросом он собирался сказать:
— А нельзя ли как-нибудь обойтись без вас? Кто вы, собственно, такой? Рука, которая вертит ручку. А нельзя ли обойтись без этой руки? Нельзя ли упразднить вас, заменить каким-нибудь механизмом?
Я ответил ему с улыбкой:
— Возможно, со временем. Говоря по правде, первейшее свойство, которое требуется от человека моей профессии, — это невозмутимость и бесстрастность по отношению к действию, что разворачивается перед камерой. Какой-нибудь механизм в этом смысле был бы, бесспорно, более уместен, и его следовало бы предпочесть человеку. Но на данном этапе развития самая большая трудность заключается в том, чтобы изобрести такой механизм, который бы мог самостоятельно регулировать движение ручки в зависимости от разворачивающегося перед камерой действия. Ибо, да будет вам, сударь, известно, я не всегда одинаково кручу ручку — иногда быстрей, иногда медленней, в зависимости от того, что происходит. Впрочем, не сомневаюсь, что пройдет сколько-нибудь времени и — вы правы — я буду упразднен. Ручка камеры — это касается и всех других машин — будет вращаться самостоятельно. Но вот что станется с человеком, когда все машины будут работать самостоятельно? Об этом, сударь, стоит подумать в первую очередь.
II
Я испытываю жгучую потребность высказаться и удовлетворяю ее тем, что пишу. Это помогает разрядиться, сбросить с себя груз профессиональной бесстрастности, а заодно отыграться за многих, кто так же, как я, обречен быть всего лишь рукой, которая вертит ручку.
Когда-нибудь это должно было произойти и вот произошло!
Человек, который прежде был поэтом, боготворил, обожал свои чувства, поумнев, забросил их как бесполезный и даже вредный придаток и, сделавшись разумным и изобретательным, стал отливать своих новых богов из железа и стали, став их прислужником и рабом.


























