Записки кинооператора Серафино Губбьо
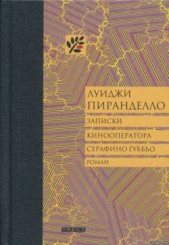
Записки кинооператора Серафино Губбьо читать книгу онлайн
«Записки кинооператора» увидели свет в 1916 году, в эпоху немого кино. Герой романа Серафино Губбьо — оператор. Постепенно он превращается в одно целое со своей кинокамерой, пытается быть таким же, как она, механизмом — бесстрастным, бессловесным, равнодушным к людям и вещам, он хочет побороть в себе страсти, волнения, страхи и даже любовь. Но способен ли на это живой человек? Может ли он стать вещью, немой, бесчувственной, лишенной души? А если может, то какой ценой?
В переводе на русский язык роман издается впервые.
Луиджи Пиранделло (1867–1936) — итальянский драматург, новеллист и романист, лауреат Нобелевской премии (1934).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Изучаю бесстрастно, но пристально эту женщину, которая, хотя и демонстрирует, будто понимает, чту делает и почему, не обладает той утрамбованной «системностью» понятий, чувств, прав, обязанностей, мнений и привычек, которые мне ненавистны в других.
Ясным ей представляется только зло, которое она может причинить другим; и она причиняет его с холодной и строгой расчетливостью.
А это, с точки зрения людей «системных», лишает ее зло всякого извинения и оправдания. С моей точки зрения, она и сама не может оправдать себя за зло, которое — она это знает — совершила намеренно.
В этой женщине есть что-то такое, чего другие не могут понять, да и она сама не понимает как следует. Распознать это можно хотя бы по той зверской манере, с которой она играет порученные ей роли.
Лишь она одна относится к ним серьезно, и тем серьезнее, чем более они неправдоподобны, вычурны, противоречивы, полны пафоса и гротеска. Обуздать ее невозможно, как невозможно смягчить зверскую манеру игры. На нее одну пленки расходуется больше, чем на актеров четырех трупп, вместе взятых. Каждый раз она выходит за границы поля действия, очерченного объективом кинокамеры. Когда же — редчайший случай — она остается в пределах кадра, игра ее до того нелепа, до того изломанны и неестественны позы, что, когда мы переходим в зал кинопроб, оказывается: почти все сцены с ее участием непригодны и подлежат пересъемке.
Любая другая актриса, лишенная особого расположения великодушного кавалера Боргалли, была бы уже давно изгнана.
— Вот, вот, вот это! — безапелляционно восклицает великодушный кавалер Боргалли при виде того, как по экрану просмотрового зала скачут ее несуразные образы. — Вот, вот, вот это… Да вы что, на что это похоже?.. Господи, ужас какой… Убрать, убрать, убрать!
И нагоняй получает Полак, а заодно помощники режиссера, которые не выпускают из рук сценария и лишь время от времени двумя-тремя словами подсказывают актерам, что должно происходить в той или иной сцене, поскольку в кинопавильоне невозможно снять за раз все эпизоды. Вот и получается, что актеры часто даже не знают, на какой роли они заняты в фильме, и порой на съемочной площадке можно услышать, как какой-нибудь актер вдруг спрашивает:
— Полак, не обессудьте, я кто — муж или любовник?
Полак напрасно негодует и возражает, что он как следует растолковал мадам Несторофф ее роль. Кавалер Боргалли и без того знает, что виноват не Полак; и это настолько верно, что он дал ему другую примадонну, Згрелли, дабы не провалить все фильмы, доверенные труппе Полака.
Но и мадам Несторофф, в свою очередь, негодует, когда Полак отдает главные роли только Згрелли или чаще Згрелли, чем ей, настоящей примадонне. Злые языки судачат, что она делает это намеренно, чтобы погубить Полака, да и сам Полак так думает и говорит об этом во всеуслышание. Но все не так. Ни о какой гибели, кроме как о гибели пленки, речи не идет. Несторофф сама в отчаянии от того, что происходит, и, повторяю, она сама не понимает, что происходит, и явно не желает этого. Она растерянна, ужасается при появлении самой себя на экране — до чего искажена, обезображена. Там она видит ту себя, которую знать не знает. Ей не хочется узнавать себя в ней, но хочется ее постичь. Возможно, годы напролет она носится в погоне за этим неузнаваемым «я», которое живет в ней и ускользает от нее и которое она пытается поймать; поймать, остановить ту особу и спросить, чего ей надо, почему она страдает и что надобно сделать, чтобы умиротворить ее.
Никто не сомневается, что все обстоит именно так, — кто не ослеплен другой страстью и кто видел ее на выходе из зала кинопроб после просмотра этих кадров. Она и вправду трагична: вид испуганный, отсутствующий, в глазах мрачное удивление — то удивление, которое бывает у человека в состоянии агонии; ей с трудом удается сдержать конвульсивные судороги, сотрясающие ее тело.
Знаю, что бы я услышал в ответ, если б в эту минуту обратил чье-нибудь внимание на нее:
— Ее душит злость, злость, злость!
Да, это бессилие злости, но оно не оттого, что, как все думают, фильм не удался. Холодная, холоднее бритвы злость — вот настоящее оружие этой женщины против всех ее врагов. Но Коко Полак ей не враг. Будь он враг, она бы не позволила себе так дрожать, но расквиталась бы с ним самым хладнокровным образом.
Ее врагами становятся все мужчины, с которыми она сближается, дабы они помогли ей уловить то, что постоянно от нее ускользает, — ее саму, да-да, ту самую, которая живет и страдает, так сказать, без ее ведома.
Но никого, в общем, не заботит то, что ей всего важнее; все ослеплены ее роскошным телом, добиваются его и ничего другого знать о ней не желают. И тогда она их наказывает холодной злобой и целится именно в то место, куда устремлены их желания. Сперва она доводит до кипения их желания, используя самое коварное искусство соблазна: тем более жестокой будет впоследствии месть. Она мстит внезапно и хладнокровно, швыряя свое тело тому, кто менее всего на это надеется; вот так, запросто, дабы продемонстрировать, сколь презирает она то, что они больше всего в ней ценят.
Не думаю, что можно как-то иначе объяснить внезапные перемены в ее любовных связях, которые всем поначалу кажутся необъяснимыми, ибо невозможно представить, чтобы она поступала в ущерб себе.
А вот другие, обдумав на досуге ситуацию и оценив, с одной стороны, достоинства тех, с кем она сошлась раньше, а с другой стороны — достоинства тех, в чьи объятия перебросилась, утверждают, что с первыми она не могла находиться, поскольку ей не хватало воздуха, а к другим ее влекло сродство с «канальей»; и этот внезапный, неожиданный прыжок от одного к другому объясняют желанием человека, который долго задыхался, вынырнуть где и как угодно, только бы глотнуть воздуха.
А что, если все как раз наоборот? Что, если, ради того, чтобы дышать и получить ту поддержку, о которой я говорил, она сблизилась с первыми, но вместо этой помощи, этого глотка свежего воздуха, на которые она уповала, но которых не получила, приобрела лишь еще большее презрение и тоску? Презрение и тоску, усиленные и отягощенные вдобавок разочарованием и безразличием к потребностям чужой души, присущим людям, которые только и знают, что холят и лелеют собственную ДУШУ — вот так, всю сплошь из больших букв? Никто этого не знает. Но на подобную низость способны те, кто слишком высоко себя возносит и кого остальные почитают за высшее существо. А посему… а посему лучше каналья, который за каналью себя и выдает; даже если он и бесит тебя, то, во всяком случае, не разочаровывает. Порой, так чаще всего и бывает, в нем обнаруживается какая-нибудь положительная черта, то там, то здесь проявляется наивность, которая тебя веселит и освежает жизнь, а об этом ты давно уже не мечтаешь и давно уж этого не ждешь.
Второй год мадам Несторофф живет с сицилийским актером Карло Ферро, который также имеет ангажемент на «Космографе», и влюблена она донельзя. Ей известно, чего можно ждать от подобного типа, и большего она не требует. Но, судя по всему, он дает ей больше, чем иные могут себе вообразить.
Посему я с некоторых пор с большим интересом присматриваюсь, в том числе, к Карло Ферро и посвящаю себя изучению этого человека.
V
Трудность задачи состоит для меня в следующем: как мог Джорджо Мирелли, избегавший малейших сложностей, растеряться настолько, оказавшись рядом с этой женщиной, чтобы лишиться жизни? Мне не хватает фактов, чтобы решить эту задачу, ибо, как я уже говорил, о драме мне стало известно в самых общих чертах.
Из разных источников я узнал, что на Капри, где Джорджо Мирелли впервые ее увидел, на Варю Несторофф смотрели косо и она была не очень-то в чести — маленькая русская община, обосновавшаяся здесь много лет назад, относилась к ней с подозрением.
Находились и такие, кто считал ее шпионкой: по неосторожности она представилась как вдова старого заговорщика, бежавшего в Берлин и умершего за несколько лет до ее появления на Капри. Похоже, кто-то навел справки в Берлине и Петербурге насчет нее и никому не известного старого подпольщика, и стало известно, что некто Николай Несторофф действительно в течение ряда лет жил в Берлине, там же и скончался, но никто не мог поручиться, что бежал он вследствие политических преследований. Похоже, узнали также, что этот Николай Несторофф девчонкой подобрал ее на улице в одном из самых бедных и неблагополучных районов Петербурга и, дав ей воспитание, женился на ней; затем, доведенный своими пороками до грани нищеты, отправил ее на панель, посылал петь в кафешантаны низкого пошиба, покуда им не заинтересовалась полиция, и он бежал в Германию, один, без нее. Но мадам Несторофф, насколько мне известно, с гневом все это отрицает. Вполне возможно, что она по секрету жаловалась кое-кому о том, что девушкой сносила побои и надругательства этого старика, но чтобы он посылал ее на панель — об этом она умалчивает; напротив, говорит, что в порыве страсти, а также в некотором смысле, чтобы заработать на жизнь, она, сломив его сопротивление, поступила играть — иг-ра-ть — в провинциальный театр. Потом, когда муж по политическим мотивам был вынужден бежать из России и скрываться в Берлине, она, зная, что он болен и нуждается в уходе, сжалилась, отправилась в Германию и ухаживала за ним до самой его кончины. Чем потом, овдовев, она занималась в Берлине, а затем в Париже и Вене, о которой она часто говорит, выказывая глубокое знание тамошней жизни и обычаев, она не уточняет, и никто, понятно, не осмеливается спрашивать.


























