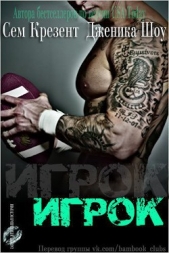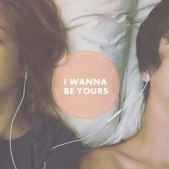Вот увидишь

Вот увидишь читать книгу онлайн
Жизнь для героя нового романа Николя Фарга «Вот увидишь» (русский читатель знает автора по книге «Ты была рядом») распалась на до и после. Еще утром он занудно отчитывал сына за крошки на столе, пристрастие к рэпу и «неправильные» джинсы. И вдруг жизнь в одночасье превратилась в источник неиссякаемой боли.
Несколько недель из жизни отца, потерявшего сына-подростка, который случайно попал под поезд в метро. Это хроника горя и в то же время колоссальный жизненный урок.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Николя Фарг
Вот увидишь
Посвящается Луи и Филиппу
Кажется, песня называется «Nobody wanna see us together» [1]. Только, может, покороче, более двусмысленно. Во всяком случае, в припеве парень по прозвищу Эйкон говорит: «Nobody wanna see us together / But it don’t matter no / I got you babe» [2]. Других слов не знаю. Никогда не старался запомнить. В первый раз, когда Клеман слушал ее отрывок в машине, меня это не заинтересовало. Я не поклонник слащавого стиля рок-энд-блюз и парней в обтягивающих майках и белых льняных штанах, которые изображают страдания разбитого сердца. Но удивился, когда сын попросил у меня ноутбук, чтобы записать песню на iPod. Пока приятели не подсадили Клемана на ненавистный мне, пожалуй, еще больше, чем тягучая жвачка R’n’B, французский рэп… Так вот, пока его одноклассники, черные и арабы из пятого «Б», не научили его восторгаться только именами Booba, Rohff, Sefuy, Sinik, МС Jean Gabin или Kery James [3], я наивно полагал, что мой парень всегда будет любить то, что давал ему слушать я. Тем более что, по его собственным словам (во всяком случае, до поступления в коллеж), эта музыка ему нравилась. И он даже то и дело просил меня записать для него «Бич Бойз», Дэвида Боуи, «Роллингов» и Ника Кейва, — короче, все то заумное старье, которое, честно говоря, в двенадцать лет можно любить, только чтобы доставить удовольствие своему папочке. Каковой папочка, поскольку речь идет не о Бахе, не о Брассенсе и не о какой-то там еще заведомой древности, всерьез полагает, что, если он слушает свою фигню на полную громкость на авторадио в допотопном «Пежо-206», когда катит по объездной, его пацан будет считать его вечно молодым.
Не понимаю, как я мог быть столь наивным, прямо-таки до идиотизма, чтобы впасть в амбицию, заметив столь резкое изменение музыкальных пристрастий Клемана. Как я мог забыть, что он входит в подростковый возраст, и так раздражаться, что даже испытывал потребность передразнивать всю эту шваль, этих рэперов. Я паясничал перед ним, в надежде вызвать у него отвращение к их музыке. А сегодня при упоминании одних лишь имен этих исполнителей внутри у меня все переворачивается, хотя я не стал лучше относиться к их творчеству. Ведь теперь я способен разразиться слезами при виде бейсболки «New Era» с золотистой эмблемой «59Fifty», массивной серебряной цепи на мощной груди качка, мешковатых джинсов с низко висящей мотней и баскетбольной майки размера XXXL. За весь этот маскарад хип-хопа я отдал бы свое здоровье, обе руки и ноги, согласился бы подвергнуться самым страшным пыткам, лишь бы вернуть Клемана, лишь бы видеть своего сына, вырядившегося, как и его приятели, в это шмотье. Это я, который в последние месяцы его жизни каждое утро орал в гостиной, чтобы он подтянул джинсы. А ему нравилось носить их спущенными до середины ягодиц, как все в школе. Я, который требовал, чтобы он прекратил гундосить дебильные и пошлые мотивчики, а заодно перестал весь день трепаться по телефону со своими дружками на жаргоне предместий. Этот жаргон, эти джинсы, словно выданные в исправительной колонии, и эти идиотские жлобские мотивчики — как это не шло ему. Ему, который вне школьных стен так любил ввернуть какой-нибудь изысканный цветистый оборот и забавы ради сказануть что-нибудь вроде:
— Предвидя твой возможный интерес, папа, торжественно уведомляю тебя, что в туалете закончилась туалетная бумага.
Он знал назубок полный перечень столиц и флагов всех стран мира. Он самостоятельно выучил, что в Афганистане говорят на фарси и на пушту, на Филиппинах — на тагальском, а в Эфиопии — на амхарском языке. Ему нравились увлажняющие кремы с приятным запахом и уютное тепло глаженой футболки, когда — не слишком-то часто — я по утрам заставлял себя взяться за утюг.
Так вот, в тот день мы с ним ехали по окружной на стареньком «пежо», а песню «Nobody wanna see us together» передавали по радио, и он умолял меня не переключать:
— Оставь, папа! — Он был взволнован, дергался, внезапно пригибался на своем месте смертника, где я лишь совсем недавно разрешил ему сидеть. Он склонялся вперед, несмотря на ремень безопасности, словно своим телом хотел защитить приемник, чтобы быть уверенным, что я не перейду на другую волну. — Оставь, папа, — повторял он, усиливая громкость, — я обожаю эту песню.
Уже вечером, когда мы вернулись, он попросил у меня ноутбук, чтобы скачать песню не знаю с какого там нелегального сайта музыкального обмена и добавить ее в iPod! Это был уже второй. Я только что купил его взамен первого, подаренного Клеману на одиннадцатилетие и потерянного или отобранного в школе (правды я так и не узнал). Бог мой, как я ругал его последними словами, когда он потерял этот iPod!
— Тебе плевать на подарки, которые я тебе делаю! — кричал я ему в гостиной. — Это просто невыносимо — видеть, насколько тебе все безразлично. Тебе нельзя доверять. Ты ненадежный человек. Строишь из себя взрослого, со своими торчащими из джинсов трусами и жаргоном предместья. А на самом деле ты еще ребенок и не заслуживаешь, чтобы я делал тебе такие подарки, — выговаривал я ему, складывая губы в презрительную и злую гримасу и стараясь, чтобы он ощутил унижение и вину.
С того самого вечера, из-за этой песни, слыша из-за двери его комнаты, как Клеман, который успел превратился в настоящего подростка, надев наушники, грустно вполголоса бормочет припев, я решил, что он, должно быть, влюбился. Потому что, уж конечно, не его дружки, любители французского рэпа, посоветовали ему, после Rohff, Sinik и им подобных, слушать этого тошнотворно-слащавого и слезливого Эйкона. Я подумал, может, все из-за Оверни, куда учителя повезли их в ознаменование окончания учебного года: после четырех дней в Ла-Бурбуль Клеман вернулся таким странным. А может, из-за прощальной вечеринки, организованной по инициативе учеников перед самым возвращением в Париж. Или виной тому июньская ночь, музыка, сумерки и несколько цветных прожекторов, делающих лица одноклассниц, а особенно Марии или Рании (я так и не узнал наверняка, которую из двух он находил более хорошенькой), еще прекраснее и нежнее. Может, благодаря одной из них Клеман впервые в жизни испытал волнение, и тогда же проявилась его тонкая восприимчивость ко всему этому: ночь, начало лета, музыка и все такое.
Только вот по тому печально отсутствующему виду, с каким, стыдясь перед своими товарищами моего присутствия и поэтому не желая слишком задерживаться, он вышел из поезда; по той безрадостной тайне, которая читалась на его лице, когда спустя три дня он заперся в своей комнате, заткнув уши наушниками, я понял, что этот «raggaslow» [4]Эйкон приносит ему как добро, так и зло. Разумеется, больше зла. Если рассматривать это определение с иронической точки зрения, поскольку, так же как столицы и флаги, Клеман любил английский. На уроках он с удовольствием старался говорить по-английски с хорошим произношением, ему не было дела до тупых насмешек всяких там Саидов, Бакаров и Кевинов. Так что, по всей вероятности, когда полагалось пригласить мальчика на медленный танец, Рания или Мария должна была выбрать другого. И именно с этой тягучей, но неумолимой мелодии, с этой ни с чем не сравнимой смеси смутного влечения к девушке и горечи понимания, что она предпочла другого, началось его вступление в подростковую жизнь.
Об этом я догадался не только по горькому одиночеству и смирению, читающимся в глазах Клемана, когда он заперся у себя в комнате, во всей беззащитности его еще по-ребячески округлого лица и в улыбке. Грусть, одиночество и смирение наложили свой отпечаток на детство этого маленького мальчика с толстым ранцем, невинно нависающим над спущенными на ползадницы джинсами. Того мальчика, который периодически с простодушным бесстыдством, оставляя за собой мокрые следы, голым заходил ко мне в спальню в поисках чистого и сухого полотенца в шкафу, выскочив из-под душа с наивно выставленным напоказ неоперившимся петушком. Щеки и улыбка Клемана еще свидетельствовали о его детстве. Но глаза, если уметь видеть… вот глаза Клемана говорили как раз о том, чего он не хотел показать, — обо всех безжалостных унижениях, которым в этом возрасте подвергают друг друга мальчишки и девчонки. А я-то знал, что эти глаза, глаза моего сына, говорят еще о его обостренной чувствительности и глубоком понимании событий и людей. Всех людей. И этих девочек тоже: девочек, которые на самом деле были совсем не теми, кем хотели казаться. Хотя от этого никак не зависит желание, вызываемое ими в вас. Впрочем, какая-нибудь Мария или Рания, слишком избалованная вожделением одноклассников, и не могла бы заметить этих глаз, заглянуть в них и вникнуть в их тайну. Мария и Рания, над чьими манящими попками в едва прикрывающих их обтягивающих джинсах не нависали тяжелые ранцы маленьких мальчиков. Эти Марии и Рании уже вовсю красились и играли в настоящих маленьких женщин специально для типов вроде Саида, Кевина или Бакара: ранняя поросль на лобке, разумеется, отсутствие тяжелого детского ранца за спиной и наглость по отношению к девочкам. И конечно, никакой тайны в глазах и лице.