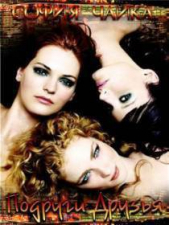Год - тринадцать месяцев (сборник)

Год - тринадцать месяцев (сборник) читать книгу онлайн
Анатолию Емельянову присущ неиссякаемый интерес к жизни сел Нечерноземья.Издавна у чувашей считалось, что в засушливом году — тринадцать месяцев. Именно в страшную засуху и разворачиваются события заглавной повести, где автор касается самых злободневных вопросов жизни чувашского села, рисует благородный труд хлеборобов, высвечивает в характерах героев их высокую одухотворенность.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Легок, однако, на помине оказался Карликов, Сидор Федорович Карликов, начальник пожарной дружины колхоза «Серп». В новенькой фуфайке, в неизменных своих диагоналевых галифе, в офицерской фуражке с черным околышем. И кирзовые сапоги, которые кажутся непомерно великими, начищены до блеска.
— Салам, Александр Васильевич. — И тянет через стол руку.
— Салам, Сидор Федорович. Садись.
Садится на стул возле окна, снимает фуражку, достает расческу из кармашка (как у Бардасова, только у него расческа почему-то алюминиевая, как в парикмахерских), долго приглаживает волосики, прячет расческу, прежде обдув ее, а потом опять надевает фуражку. Конечно, в фуражке он выглядит гораздо солиднее.
Я, однако, чувствую, что разговор у него серьезный, вот он и собирается с духом.
— С чем пожаловал, Сидор Федорович? Взносы у тебя вроде бы уплачены…
— Взносы… По делу я…
Молчу, жду.
— Выговор вы мне дали… Ну вот я решил проверить, правильно это или нет.
— Проверил?
— Ну, полистал журнал «Партийная жизнь» за два года…
— И что там нашел?
— Да оно, конечно… Но как же так получается, Александр Васильевич? Ну, скажем, получил я выговор по партийной линии, сын там намудрил со счетчиком, а я, значит, получил… Но зачем правление-то еще удержало тридцать рублей? Счетчик-то, может, не работал всего три дня, а они удерживают тридцать рублей! И где тут справедливость, Александр Васильевич? И где закон? Александр Васильевич, как коммунист коммуниста прошу, поговори ты ради бога с Бардасовым, он тебя послушает!..
Я толкую ему, что наказывать штрафом за проделки со счетчиком постановило собрание, а все решения собрания в колхозе — это закон!
— Закон… — бурчит Карликов. — В армии и то за один проступок два наказания не дают…
— Но подумай сам, Сидор Федорович, все-таки неудобно как-то и нам, коммунистам. Ты, такой заметный в колхозе человек, и вдруг!
Он подозрительно косится на меня: не шучу ли я, не смеюсь ли над ним — «заметный»! Но нет, принял, кажется, серьезно, даже и плечиками подергал, посерьезнел лицом.
— Да, оно-то так, я понимаю…
Я спрашиваю, какая у него семья, — ведь для иной большой многодетной семьи тридцать рублей — это настоящий капитал. Но семья у Карликова, оказывается, всего три человека: он, жена и сын.
— Ну… еще племянница…
— Племянница? Кто же такая, что-то не слышал.
Он поднимает на меня невинные глазки.
— А как же, Нина, наш экономист, она ведь тоже Ка… Карликова.
Ах ты, мелкий врунишка!
Однако Сидор Федорович не спешит уходить. Он сидит и вздыхает все глубже и глубже и с таким страданием, что я невольно думаю, что это и в самом деле беднейший человек, что он по миру пойдет без тех тридцати рублей. И я уже хочу сказать: «Ладно, я поговорю с Бардасовым, может, скостит…» Но он опережает меня:
— Квартира как?
Вопрос звучит тихо, глухо и затаенно, — точно змея прошипела в кустах. Вот оно что! Вовсе не по случаю штрафа пришел он. Это как бы для затравки, а главное — вот это — квартира! Конечно, это отголосок их доверительных бесед с Красавцевым, не иначе. Недаром мне так явственно показалась знакомой интонация: «квартира как?» Вот прохвост! Мелкий каверзкик!.. Но я подавляю в себе волну раздражения и говорю безразлично:
— Ничего, очень хорошая квартира…
— Живете два холостяка?..
— Живем, что же делать.
— Вам-то, наверно, беспокойно с Графом, женщины к нему всякие ходят.
— Женщины? Ах, в самом деле, помню, была как-то с месяц тому назад Сухви-инге. Не знаете такую?
— Ну… — И Сидор Федорович вяло машет рукой, потом опять долго сидит молча, вздыхает тяжело. — Александр Васильевич, скажи мне, как коммунист коммуниста прошу, Граф не говорил с тобой насчет свадьбы?
— Вот об этом мы с ним не говорили.
Опять тяжело вздыхает мой Сидор Федорович. А я гляжу на него, на его фуражку, в которой он совсем утонул, и мне становится в самом деле жаль его. Как все переплелось в закоулках его сознания, каким рабом житейских мелочей сделался человек! «Партийную жизнь» за два года перебирать только за тем, чтобы выяснить, законно или незаконно ему вынесли выговор за воровство электроэнергии! И виноватым считает Графа, который обнаружил это воровство! И тут уже плетется паутина мелких интриг, сплетен, «женщины», квартира, и в этой липкой паутине теряется существо дела, первопричина. И если бы делалось это сознательно, с тонким расчетом, с точным знанием что хорошо и что плохо — сделал, мол, я погано, а вот таким образом я себя буду выгораживать! Так нет же, нет этой границы! Граф — плохой, потому что именно он обнаружил махинации, и чтобы опорочить Графа, идет в дело уже все, чего было и чего не было.
Правда, на сей раз тут приплелась еще Нина, и только эта ситуация поставила в тупик Сидора Федоровича. И он окончательно запутался в своей же собственной паутине, он чувствует, что у него уже нет сил выкарабкаться, он чувствует свое бессилие и вот пришел ко мне, «как коммунист к коммунисту»…
— Если квартира не понравится или там что… — говорит он с порога, — я вам другую найду. Вон Ирина Семеновна, учительница, на пенсии сейчас, одна живет. У нее чисто, спокойно вам будет, и старушка культурная, меня еще учила до четвертого класса…
— Хорошо, Сидор Федорович, я скажу вам, когда понадобится…
Квартира! Сколько людей мне уже об этом говорили: и Красавцев, и Люся, и вот Карликов!.. Может быть, и в самом деле перейти от Графа?.. Ведь одолеют коллективными усилиями, одолеют. Ты к ним, значит, с высокими мыслями, с идеями, а они к тебе «пожизненному». Ты ему о том, что нельзя воровать, а он тебе о «женщинах», которых, кстати, сам и придумал!.. Но тут я подумал: а Люся? — как будто сам себя ужалил. Ну и что — Люся, ну и что? Кому какое дело до Люси и до меня? Мы люди свободные пока, мы, может, поженимся!.. Ах ты, черт побери! Ладно, план нужно прикинуть, план работы парткома колхоза «Серп»! Вот как! Значит, собрание раз в два месяца, заседания парткома два раза в месяц…
— Да, — говорю, — войдите!
Но не слышит, что ли? Еще стучит. А чего стучать?
— Войдите! — кричу.
Дверь медленно отворяется, и в кабинет просовывается головой женщина лет пятидесяти пяти. Где-то я видел ее, однако этот платок цветастый с кистями, красный плащ, коричневые туфли на низком каблуке. Я едва узнал в этом наряде жену Казанкова. Оказывается, ей сказали, будто ее искал человек из района, но она была в лесу — «по желуди опять ездили», и вот она думает, может, что спросить хотел. А сама она пришла только потому, что уезжает к сыну в Казань на жительство.
— И не вернусь больше, пускай один помирает, кобель окаянный! За ум-то он, видать, так и не возьмется. Раньше, когда на разных работах был, купит, бывало, мешок муки и полгода попрекает, а как стал пенсию получать, говорит, что я на его пенсию живу! Ой-ей, не хочу больше слышать его упреки!.. Ведь все дни стучит на машинке, стучит и стучит, не знай, что стучит! Услышит от кого-нибудь какую сплетню и стучит. А люди часто надсмехаются над ним, что ни то да натреплют нарочно, а он и верит. А потом над ним и смеются!.. Какие тоже люди! — Она отвернулась, помяла конец платка, но, видимо, не решилась им утереть повлажневшие глаза.
— Значит, уезжаете? — спросил я.
— Уезжаю, совсем уезжаю к сыну, не могу больше терпеть, сил не стало никаких… Ведь за весь век дня не было, чтобы горя не приносил. В деревне-то знают, но вы человек новый, всего не знаете. Он ведь за всю жизнь вроде воды не принес, ни разочка по дрова не съездил, чурки не расколол. Чего только не перевидала с ним за тридцать-то лет! Троих детей вырастила, да без счету скидывала, чтобы лишних ртов не было, в больницу не хаживала — некогда было. А он даже пол не подметал, когда я плашмя лежала. Такой уж он человек: вдоль не переложит, что поперек лежит. А когда молодой был — и в войну, и после войны, как кобель, носился, а теперь вот он лучше всех, только другие беспутники!.. И детей-то ведь замучил: то не так да это не так, а когда учились, ни копейкой не помог, только я своих трудодней отрывала для них. Вот они от него и отказались, не хотят его отцом считать… Такой уж он, такой… — Тут она не стерпела, заплакала, слезы побежали по щекам ручьем.